Отправлено 19 февраля 2019 - 19:08
Район в устье Невы издавна находился в сфере военно-стратегических интересов скандинавов, новгородцев, ладожан. Русский историк С. В. Семенцов указывает, что «…за столетия до основания Санкт-Петербурга на островах уже существовали селения новгородцев, затем москвичей, а с первой половины XVII в.— шведов и финнов. Устье Невы известно еще по древнерусским летописям и скандинавским сагам».
Нева – вотчина Великого Новгорода
Нева являлась важнейшим водным путем на трансконтинентальных трассах, соединявших Северную Европу и Византию, Среднюю Азию, Восток. Со времен варягов известен «Восточный путь», проходивший по Балтийскому морю, Неве, Ладожскому озеру, Волхову и далее выходивший на Днепр («Путь из Варяг в Греки») или на Волгу («Великий Волжский путь»), Современное Балтийское море новгородпы (славяне и жившие рядом с ними прибалтийско-финские племена «водь», «ижора», «карела», «весь», «лопь» и другие) называли «Варяжским», а скандинавы (варяги) — «Восточным морем».
Борьба за контроль над устьем Невы, всей Невой и Ладожским озером была очень напряженной. Издревле эти земли являлись коренными новгородскими территориями. Защита Невы всегда была одной из важнейших задач Новгородского государства. Известны многочисленные попытки захвата Невы иностранными войсками. Впервые Нева упомянута в Новгородской Первой летописи в статье 6748 (1240) г. в связи с крестовым походом шведов на Неву, Ладогу и Новгород. Новгородские войска под командованием князя Александра остановили их, затем разгромили в знаменитой Невской битве. Сама битва произошла в устье Ижоры. Невская битва изучена очень подробно. Чаще всего внимание исследователей привлекали темы именно битвы. Но в данном случае хотелось бы отметить, что события Невской битвы охватили не только место впадения Ижоры в Неву. В летописи описаны действия на гораздо более обширном пространстве, включая зону современных Петроградского (Санкт-Петербургского) и Васильевского островов, взморья. В летописи есть запись: «В лето 6748 (1240). Придоша Свеи в силе велице, и Мурмане, и Сумь, и Емь в кораблихъ множьство… зело; Свеи съ княземъ и съ бискупы своими; и сташа в Неве устыи Ижеры, хотиче всприпти Ладогу, просто же реку и Новъгородъ и всю область Новгородьскую».
Шведы собрали войско под началом военных руководителей, с участием католических епископов для крещения в латинскую веру некатоликов (православных, язычников), соединились с отрядами своих данников «мурман», прибалтийско-финских племен «суми», «еми» и направились в Неву. В начале XIII в. здесь находился сторожевой пост новгородских дружинников, охранявших входы в Неву и начало Великих торговых путей от вторжения ватаг разбойников и от нашествия враждебных Великому Новгороду немецких и шведских рыцарей. Так, ш продолжения летописного текста известно, что отряд воинов из коренного прибалтийско-финского племени «ижоры» под руководством старейшины и воеводы Пелгусия (в православном крещении Филиппа) охранял вход в Неву из Варяжского моря: «..М се пакы бе некто муж старейшина в земли Ижсрьскои, именемъ Пелгусии, поручена же бе ему стража морьская… Отоящу же ему при краи моря, стерегущу обои пути, и пребусть въсю нощъ въ бдении…». Здесь даны указания на «обои пути», эти слова можно расшифровать как «два фарватера». Вплоть до середины XVII в. общий фарватер из западной части Финского залива в Неву шел севернее современного острова Котлин, а восточнее Котлина разделялся на «Старый фарватер» и на «Средний фарватер» (эти фарватеры изображены на некоторых старых шведских гидрографических картах, названия «Старый» и «Средний» относятся уже к шведскому времени). Современного «Южного или нового фарватера» (как обозначено на шведских картах с конца XVII в. и на русских картах ХVШ в.) еще не было. «Старый фарватер» проходил в северной части залива, между современными Елагиным, Крестовским и Каменным островами, затем выходил па современную Большую Невку. «Средний фарватер» шел между современными Васильевским и Петроградским островами. Знание трасс фарватеров позволяет приблизительно определить место нахождения новгородского сторожевого поста, на котором в 6748 (1240) г. размещалась дружина Пелгусия. Это могла быть западная оконечность современного Крестовского острова или один из малых островков, которые соединили с Крестовским островом при создании в XX в. Кировского стадиона. Таким образом, территория современной Санкт-Петербургской стороны уже звучала в первом летописном известии.
Шведские вторжения в Неву в 14-м веке
Вновь обостряется внимание к Неве, точнее — к ее дельте — относится к 6808–6809 (1300-1301) гг. Известные события этих лет нашли отражение одновременно в новгородских летописях и в скандинавских сагах. В 6808 (1300) г. шведские войска вошли в Неву. В составе войск были мастера из Рима, они быстро выстроили в устье р. Охты крепость Ландскрону (Венец земли), поставили гарнизон с воеводою Стенем. Летом того же года ладожане неудачно пытались выбить шведов из устья Охты. Весной 6809 (1301) г. новгородские дружины под началом князя Андрея подошли к Ландскроне и 19 мая штурмом взяли ее, избили шведский гарнизон, пленных увели, а крепость сожгли. В летописи об этом говорится достаточно лаконично: «...Въ лето 6808… Того же лета придоша изъ замория Свеи в силе велице в Неву, ириведоша изъ своеи земли мастеры, из великого Рима от папы мастеръ приведоша нарочитъ, поставиша городъ надъ Невою, на устъ Охты рекя, и утвердиша твердостию несказаньною, поставиша в немь порокы, похвалившеся оканьнии, ыарекоша его Венець земли: бе бо с нимн наместникъ королевъ, именемъ Маскалка; и посадивше въ немь мужи нарочитыи с воеводою Стенемъ и отъидоша; князю великому тогда не будутцю в Новегороде. Въ лето 6809. Приде князь Великыи Андреи с полкы низовьскыми, и иде с новгородци къ городу тому, и приступиша к городу, месяца мая 18, на память святого Патрикия, въ пяток пред Сшествием святого духа, и потягнуша крепко; силою святыя Софья и помощью святою Бориса и Глеба твердость та ни во чтоже бысть, за высокоумье ихъ; зане всуе трудъ ихь безъ божия повеления: град взят бысть, овыхъ избиша и исекоша, а иныхъ извязавше поведоша с города, а град запалиша и розгребоша…»
В шведской «Хронике Эрика, или древнейшей Рифмованной Хропике» эти же события описаны гораздо более подробно. Здесь дано описание подготовки шведского марскалка (воинского начальника) Торгштьса в поход, снаряжения большого флота и сбора более 1100 воинов, решивших «более не щадитъ язычников» (т. е. православных славян и коренных прибалто-финнов), остановки этого флота в удобной гавани в устье р. Охты на Неве. Охта названа Черной рекой. Шведы поставили корабли вплотную друг к другу, перегородив всю реку. Некоторые исследователи предполагали, что шведский флот был размещен на Неве, он был таким огромным, что корабли вплотную стояли от одного ее берега до другого. Анализ дальнейшего текста «Хроники Эрика» показал, что шведские корабли были поставлены в устье р. Охты. Естественно, она не такая широкая, как Нева, а значит, и шведская эскадра была не столь многочисленной. Несколько кораблей вполне могли перегородить устье р. Охты. Указано, что сразу же шведы решили поставить крепость Ландскрону «между Невой и Черной рекой на мысу, где сходятся обе эти реки. Беем им пришлось кстати, что Нева протекает к югу у от крепости, а Черная река к северу».
Поход русских к крепости Ландскрона
Русские решили уничтожить шведскую крепость Ландскрону. Историк Е. А. Рыдзевская, первыми в поход на Ландскрону могли пойти именно ладожане. В шведском тексте отмечена попытка ладожан сжечь шведские корабли. Для этого они «…сделала из сухого дерева плоты… и подожгли, так что они ярко горели, и пустили их вниз по течению…».Попытка не удалась. Шведы перегородили реку сосной и плоты остановились, не доплывя до Ландскроны: «…Большая частъ плотов остановилась на реке; поперек реки была паложена большая сосна для того, чтобы плоты те не вредили кораблям…». Традиционно исследователи здесь недоумевали: как можно перегородить сосной Неву? И видели в этих словах лишь поэтический оборот. Но сухопутная дорога от Ладоги к устью Охты шла не по берегу Невы, а через современные Колтуши к среднему течению реки и затем по правому берегу самой р. Охты до Невы (как и было точно отмечено позднее на картах шведского времени), то все становится на свои места. И эта часть шведского описания соответствует реалиям. С большой долей вероятности можно предположить, что ладожские дружины шли к Ландскроне от истоков Невы сухопутным путем, а при переходе через р. Охгу были сформированы плоты, подожжены и направлены в ее устье. Здесь, на Охте-реке, горящие плоты (своеобразные «брандеры») были остановлены перекинутыми через русло р. Охть: одной или несколькими высокими соснами. Ширина русла позволяла сделать такую запруду. Затем в шведском тексте идет описание окончания строительства крепости и размещения в ней гарнизона в 300 человек (200 воинов и 100 человек прислуги) под началом доброго рыцаря господина Сгена: «…200 способных к бою людей и 100 для того, чтобы работать; они должны были готовить солод, варить пиво и печь хлеб, а также сторожить по ночам…». Но осенью и зимой Ландскрону охватил голод, многие члены гарнизона крепости заболели цингой и умерли.
Весной русские собрали огромное войско «…и карел, и язычников…» и направились брать штурмом Ландскрону, «…потому что крепость та была так поставлена, что жителям того края ничего другого не оставалось, как подчиниться или бежать, если они хотели остаться в живых..,». На первом этапе наступления русских войск на Ландскрону было решено перегородить сваями устье Невы, чтобы не могло по морто подойти подкрепление. Русские дружины уже заготовили сзади и бревна и приготовились забивать их в русло Невы и проток, но в это время шведский гарнизону устроил военную вылазку из крепости. Численное подавляющее превосходство русских заставило шведских воинов ретироваться обратно в крепость. Начался штурм, крепость загорелась, и русские дружины с рукопашным боем вошли в нее. Остатки шведов заперлись в погребе и сдались лишь после отчаянной обороны. «…После того как пленных поделили и с ними было покончено, и добыча была взята, а крепость та сожжена, все русские отправились домой и увели с собой пленных тех. Мало уцелело от огня. Так была взята крепость та. Основные события этих отрывков 1300—1301 гг. по большей части происходят вдалеке от современной Петроградской стороны. Они касаются устья р. Охты, территорий современной Большой Охты. Но характерно то. что для штурма Ландскроны в устье р. Охты русским дружинам необходимо было выйти на взморье и перекрыть «устье реки» — устье Невы. Что они могли забить сваями все западное побережье всех островов, представляется маловероятным. Более реально было перекрыть существовавшие тогда фарватеры. Мы касались уже трассировки древнейших фарватеров. И опять историческая география приводит нас к западной оконечности островов, к западной линии современной Петроградской (Санкт-Петербургской) стороны. Снова территория современной Петроградской стороны участвует в летописных событиях. Опять обозначились фортификационное единство всей дельты Невы и особая роль будущей Петроградской стороны. В летописных описаниях и в скандинавской хронике на территории невских островов не упомянуты селения, но отмечены обширные глухие леса, удобные для военных засад.
Невские острова в 16-м веке
В ХV-ХVІ вв. острова будущей Санкт-Петербургской стороны и поселения на них также неоднократно отмечены в Писцовых, Подорожных, Оброчных и других книгах. В Писцовых книгах 1498—1501 гг. среди топонимов и гидронимов дельты Невы уже находим Васильев остров (современный Васильевский остров), Фомин остров (ныне — Петроградский остров), остров Сандуй (Сундуй). На Фомине и Васильевом островах находились крупные селения. Так, по переписи 1498–1501 гг. («новое письмо») известно «Село на Фомине Острову на Неве у Моря» на 32 двора, 35 хозяев и 5 непашенных крестьян, в селе жил тиун — представитель княжеской власти. По приведенным там же данным «старого письма» (т. е. данным приблизительно 1470-1490-хгг.) это поселение в те годы было не столь большим, еще не имело административного статуса села, а записано «только» деревней. «Село на Фомине Острову на Неве у Моря» входило в Великокняжескую волость Лахту и управлялось ореховскими наместниками с древних времен («из старины»)…
С 1580-х гг. территории Приневья фактически захватили шведские войска. Юридическое закрепление перехода земель Приневья под шведское владычество осуществлено было по Столбовскому договору между Российских и московских селений начато строительство шведского города Ниена. Затем в 1656–1661 гг. рядом с городом Ниеном выстроена крепость Ниеншанц.
В XVII в. земли дельты Невы входили в Спасской погост Нотебургского лена. В это время взамен вытесняемого древнего православного славянского и прибалтийско-финского населения на берега Невы прибыли десятки тысяч финнов из областей Саво и Эврепя (позднее назвавшиеся финнами-ингерманландцами), а также небольшие группы шведов и немцев. Приблизительно с 1640-1650-х гг. проведена была замена древнерусской топонимики на финскую и шведскую. Современный Елагин остров стал называться — Мистулла, современный Крестовский остров — Ристисаари, Каменный остров — Кивисаари, Аптекарский остров — Коргшсаари, Петроградский (Санкт-Петербургский) остров — Койвисаари, Петровский остров — Палсисаари, маленький островокв устье современной реки Карповки — Килисаари, Заячий остров — Енисаари и т. д. Но мы сейчас не можем подробно останавливаться на огромном комплексе допетербургских данных, нам приходится «перескакивать» через века и более внимательно рассмотреть времена от Петра Первого вплоть до Елизаветы Петровны.
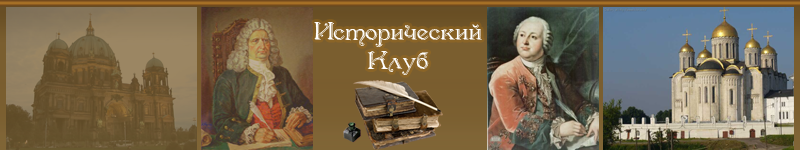
 Помощь
Помощь
























