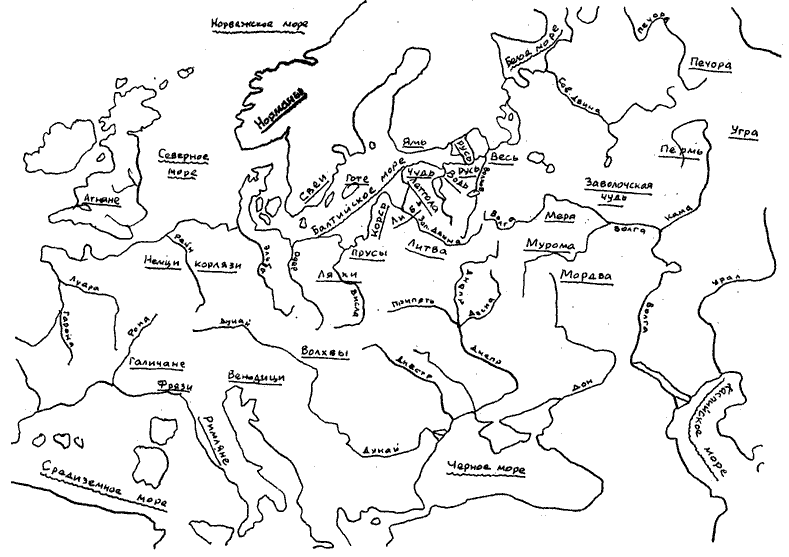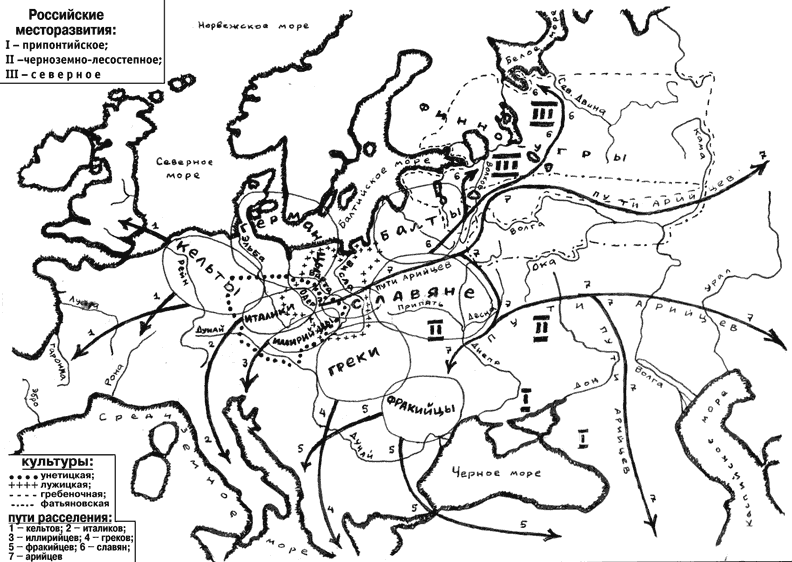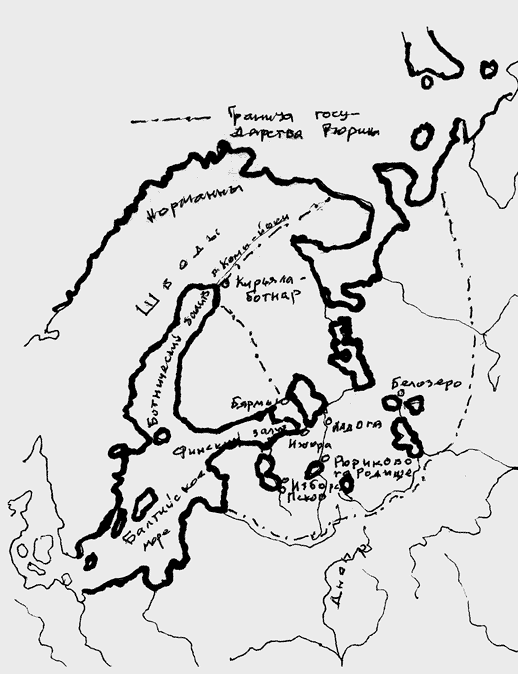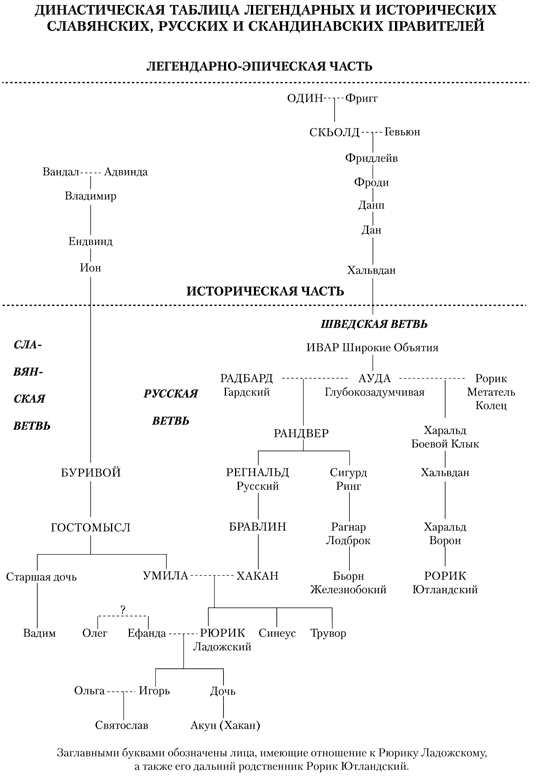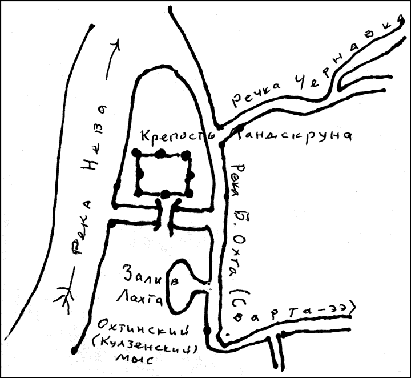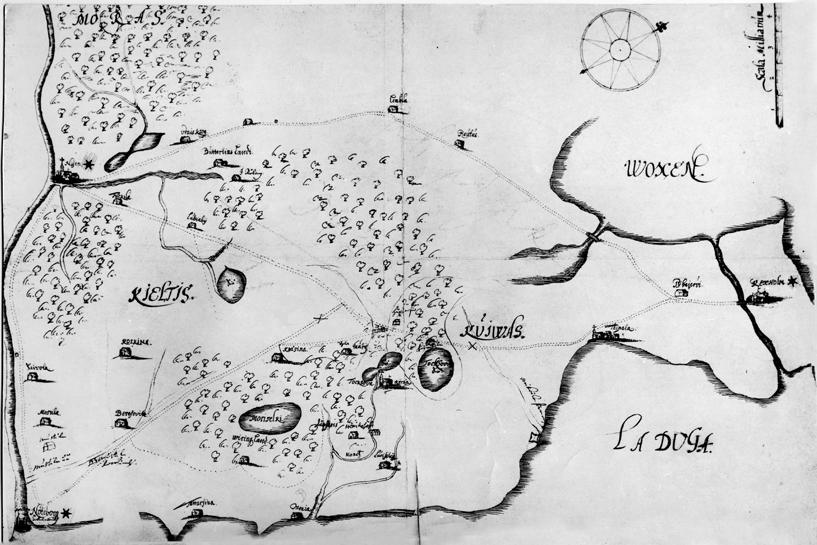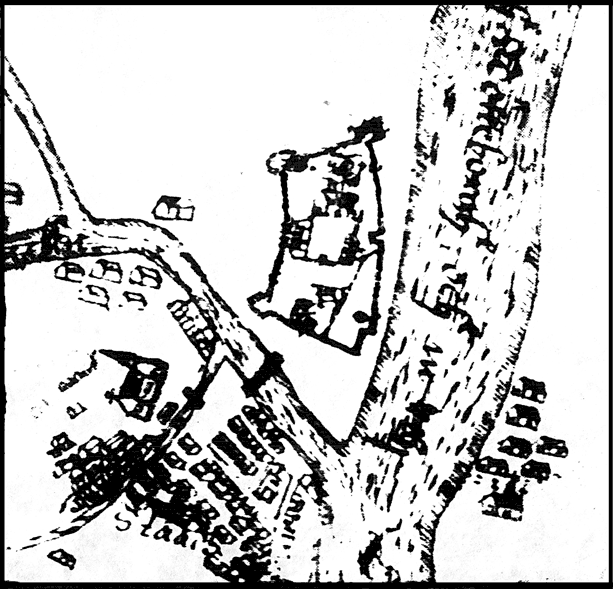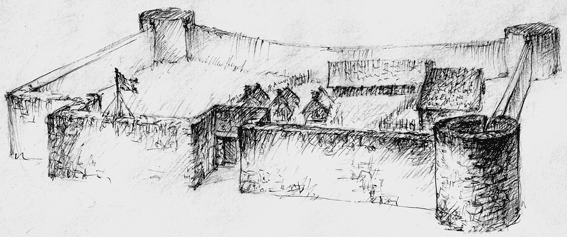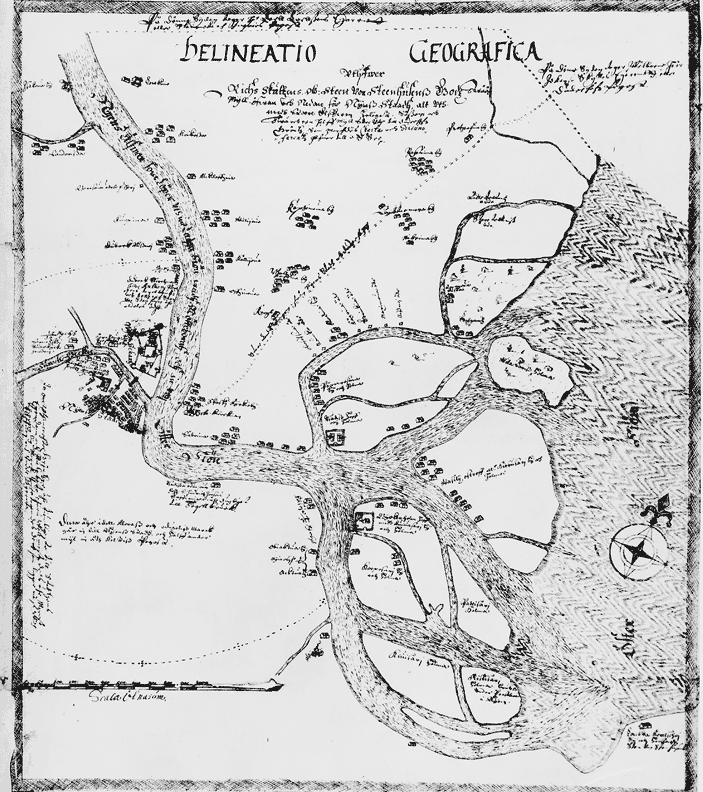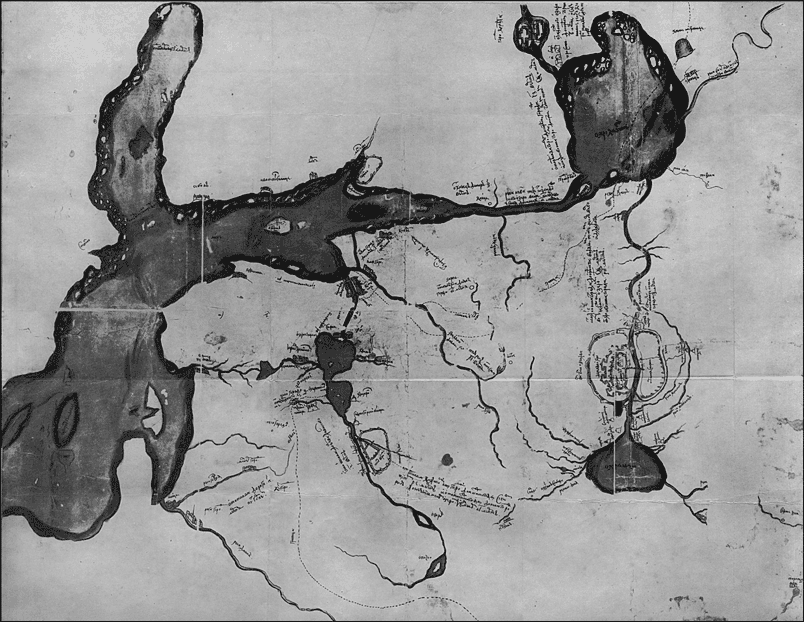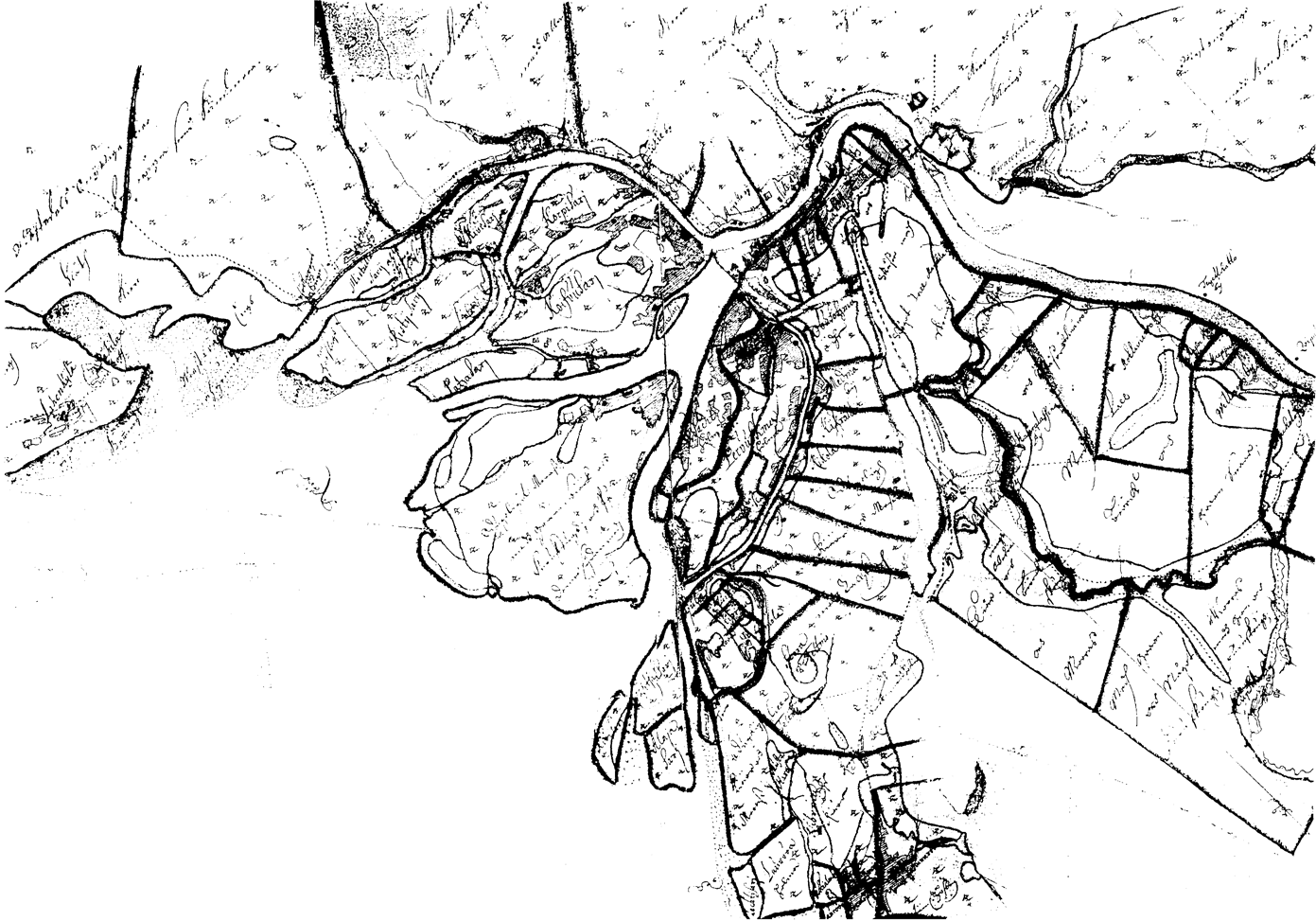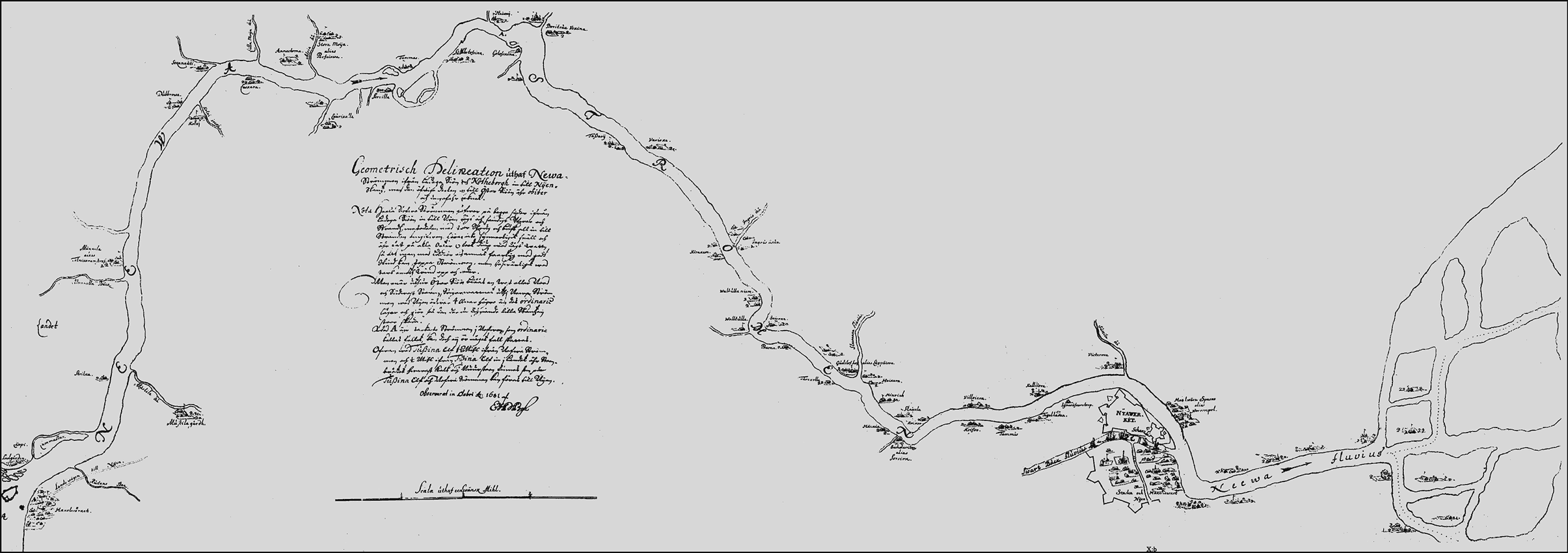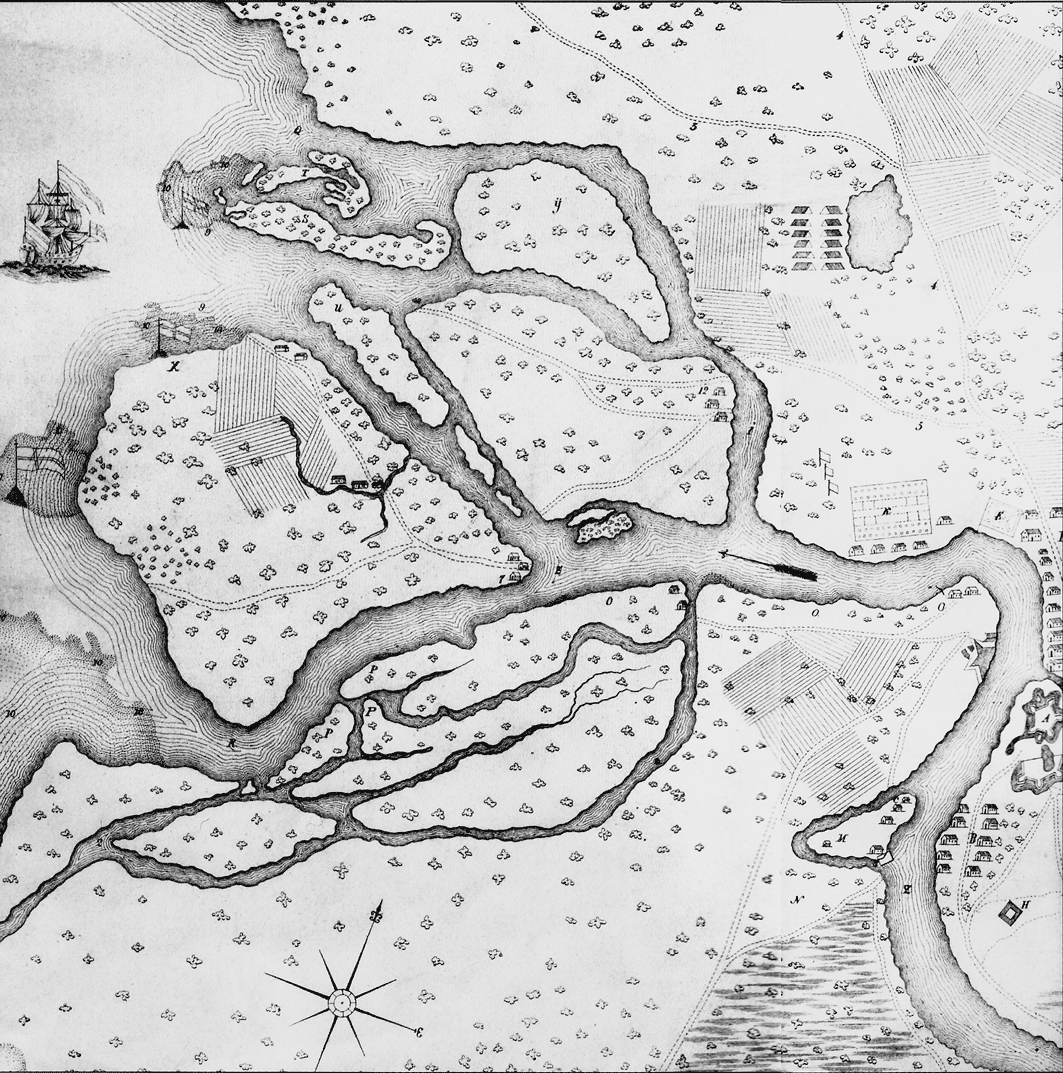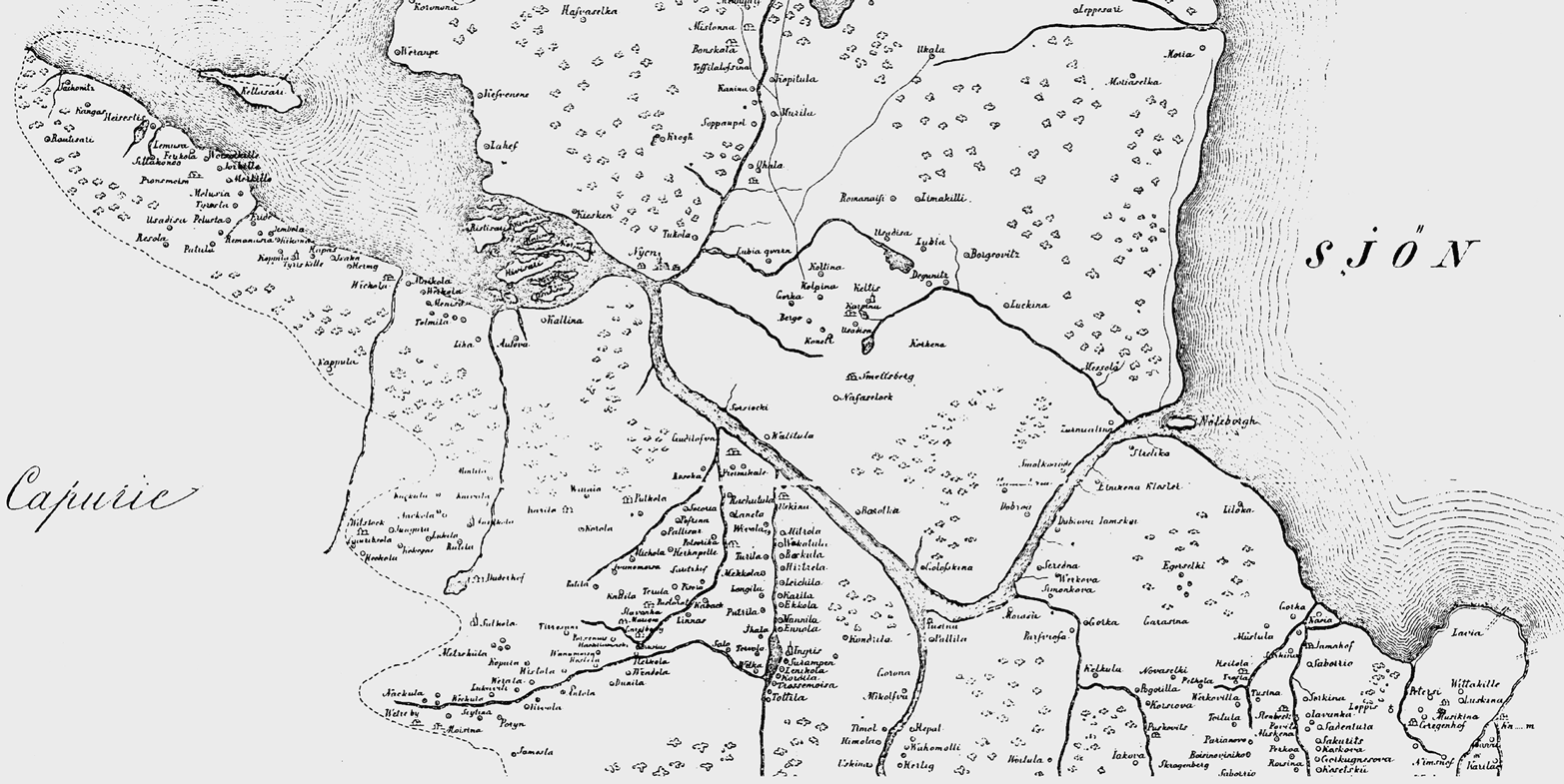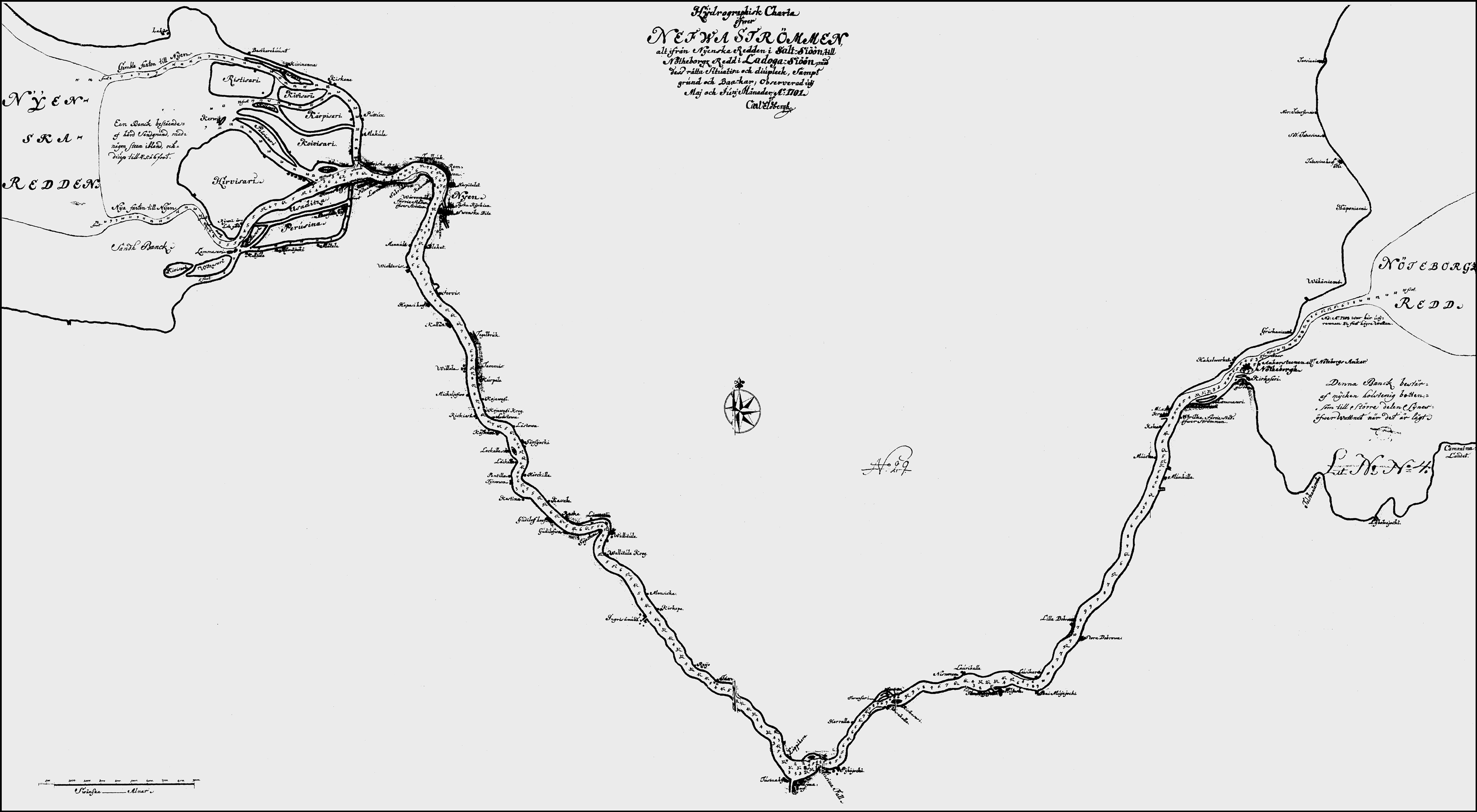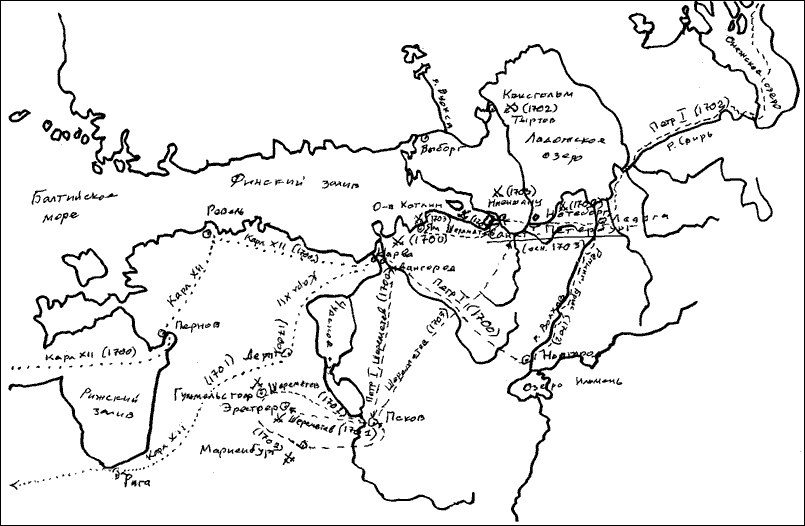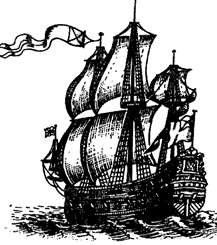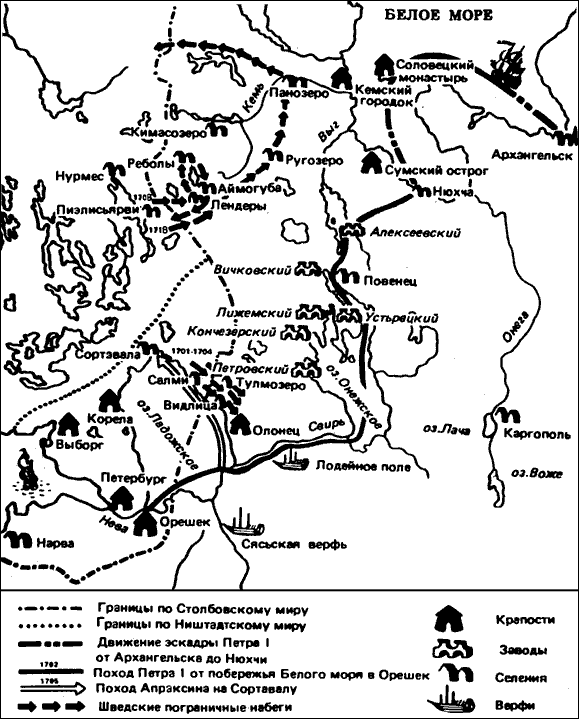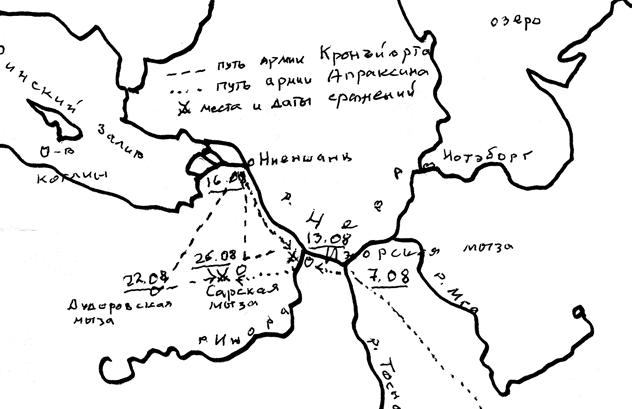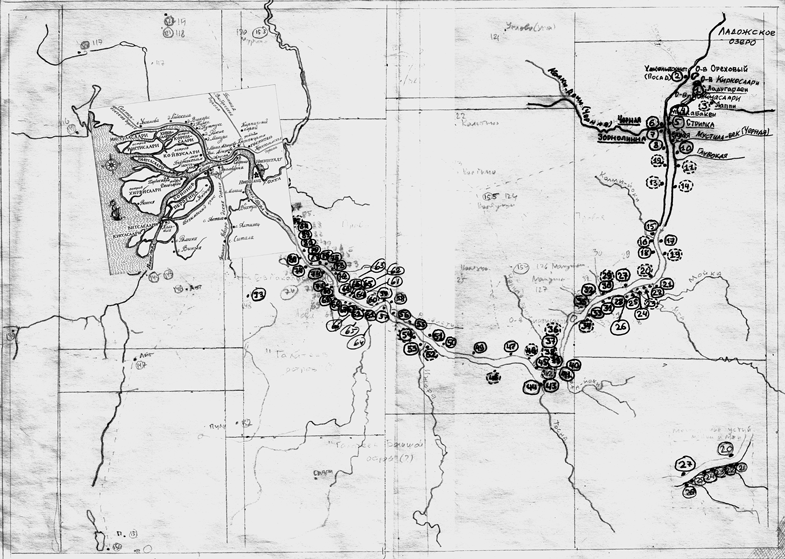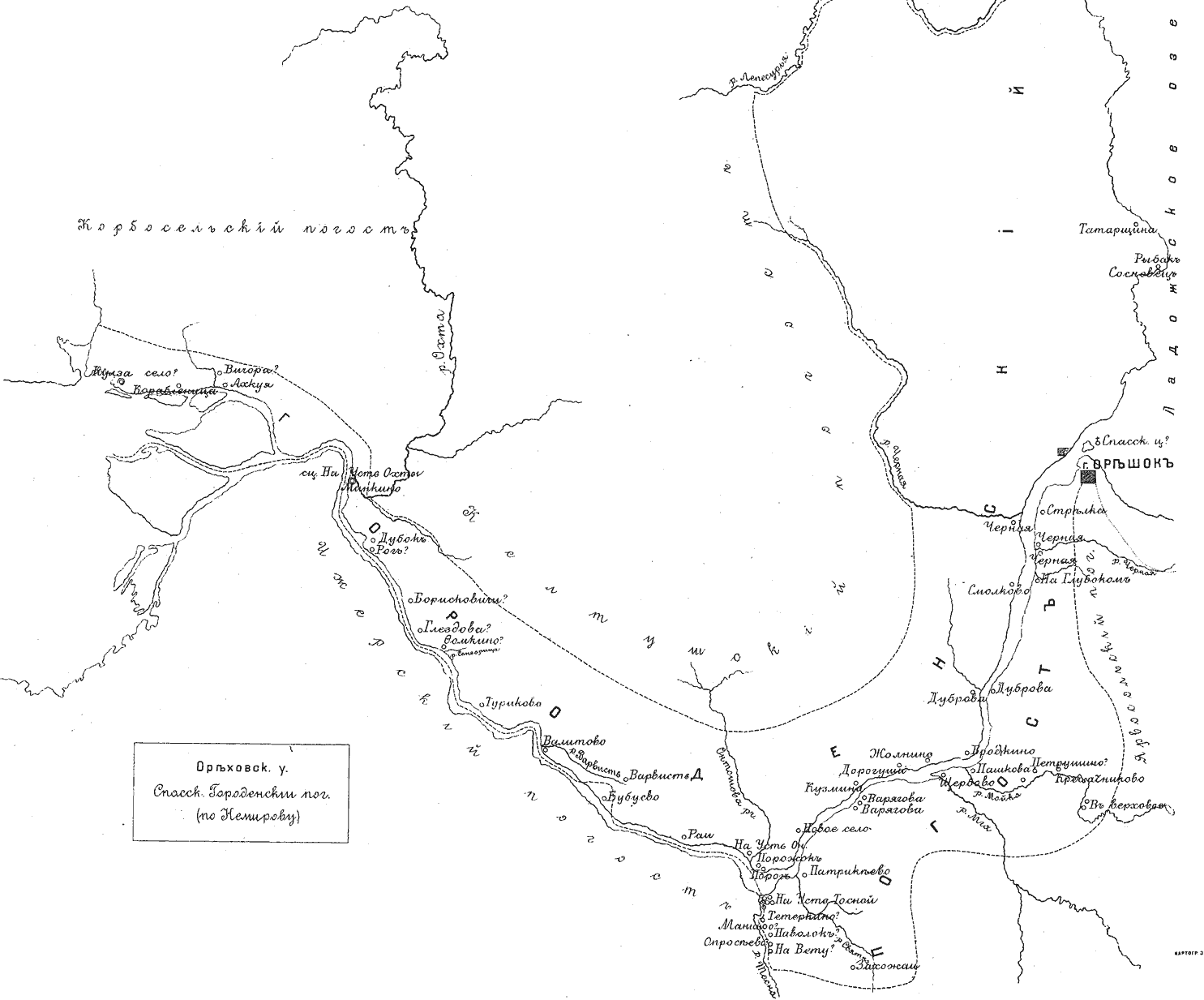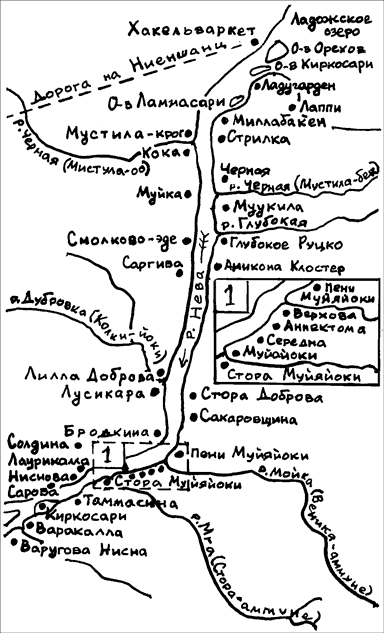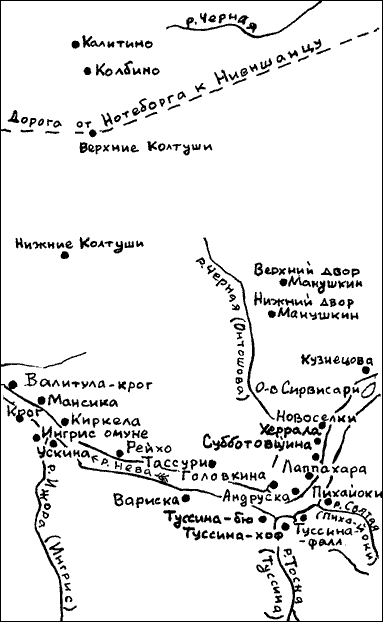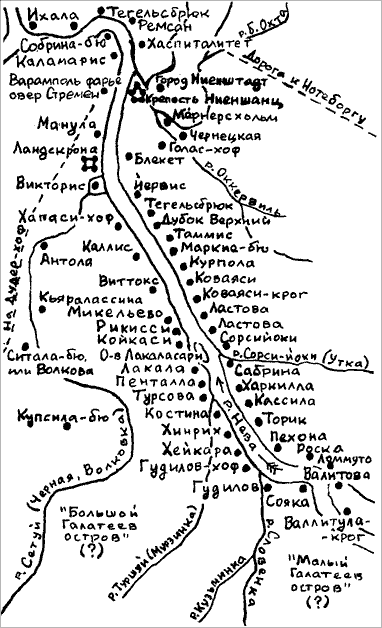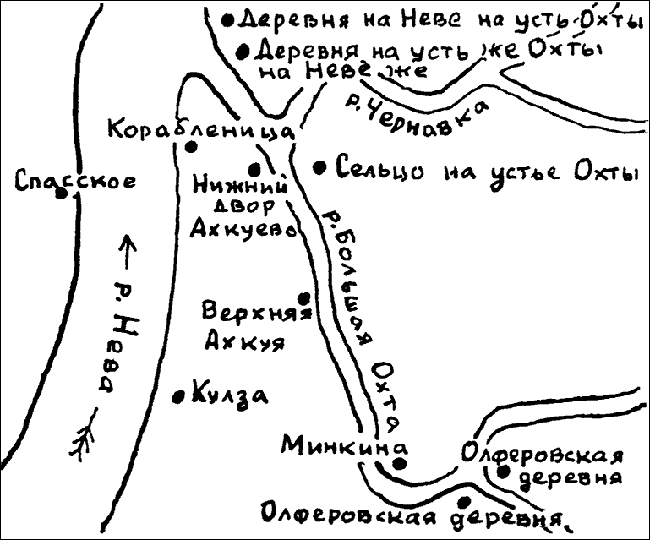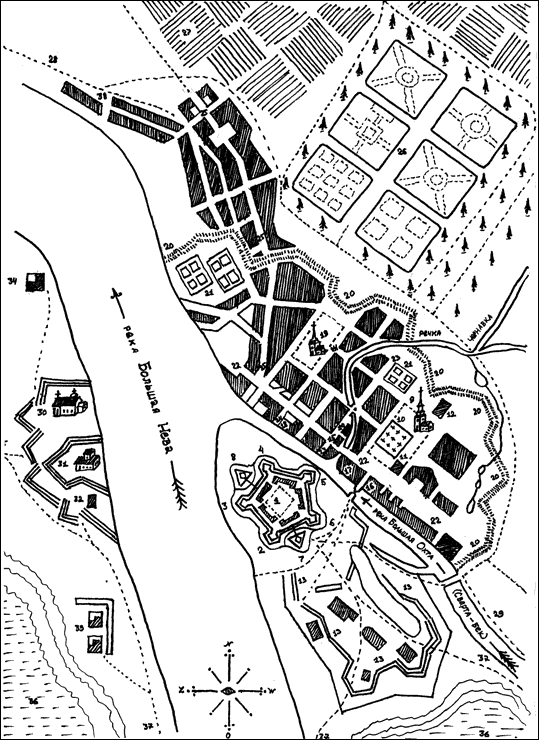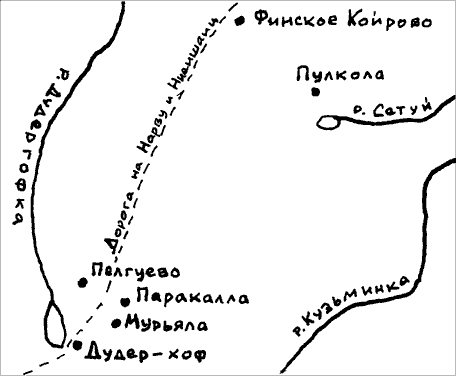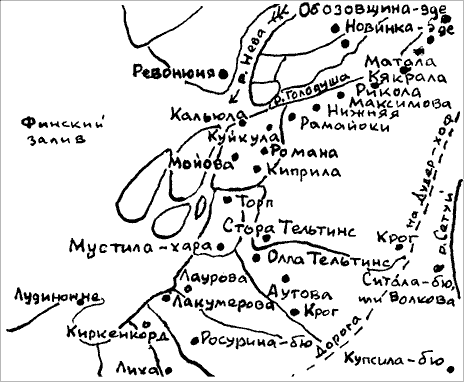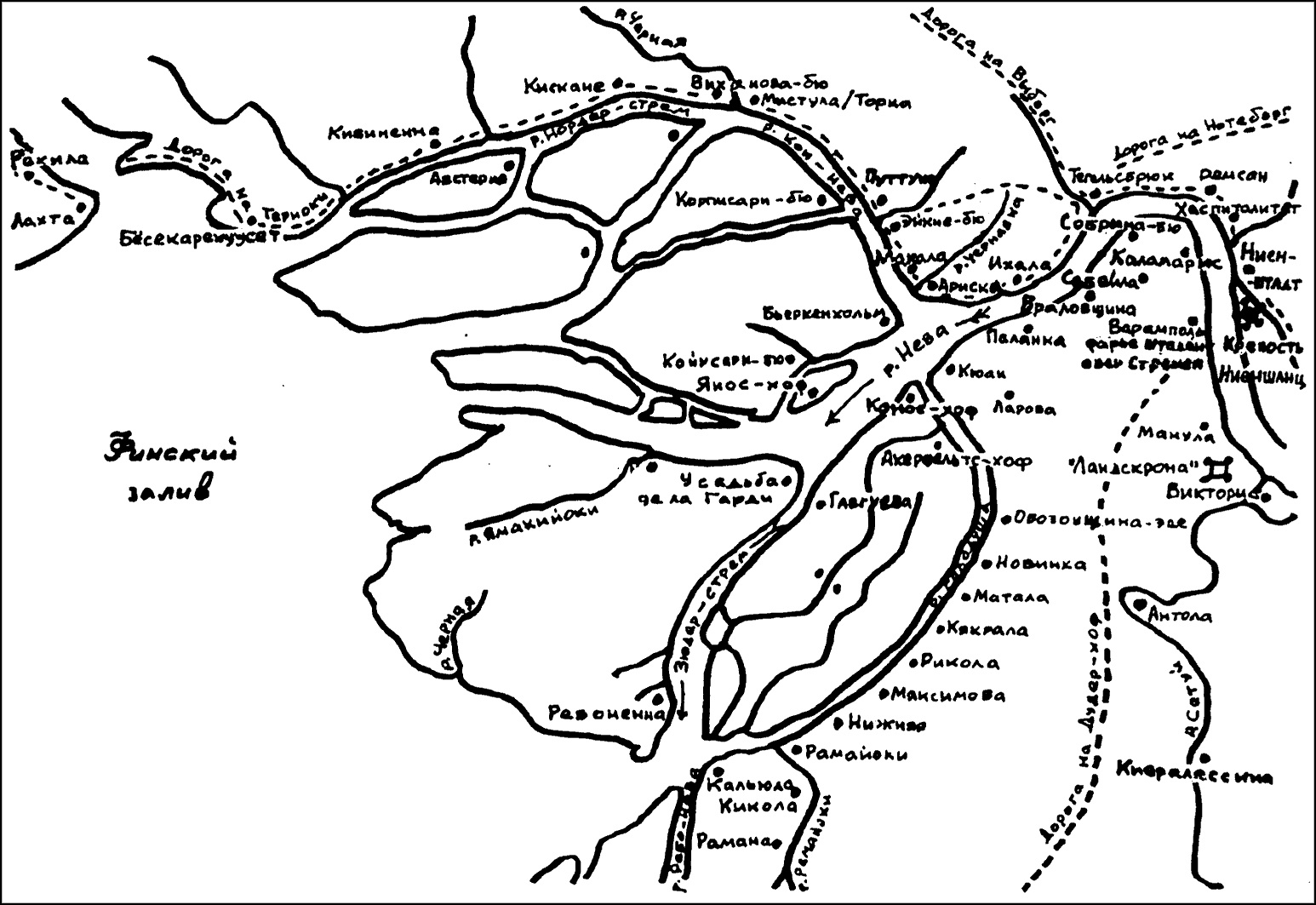Александр Матвеевич Шарымов
Содержание
Книга первая.
ПРЕДЫСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Раздел 1.
ИЗ ДОПЕТРОВСКОЙ ИСТОРИИ ОЗЕРНОГО КРАЯ
I. Озерный край... Приневье
II. Первые сто семьдесят веков
III. С точки зрения древних авторов
IV. Рухс-асы идут на север
V. От легенд к истории
VI. Жизнь варягов-русов; «эпоха Рюрика» и начало Древней Руси
VII. До «революции 1136 года»
VIII. Озерный край до прихода Орды
IX. «Дни Александровы»
X. Выборг и Корела
XI. Строение и гибель Ландскруны
XII. Годы торговли и сражений
XIII. Ореховецкая крепость и Ореховецкий договор
XIV. Дела корельские и новгородские
XV. Магнус идет на Неву и Орешек
XVI. Костры в Озерном крае
XVII. Судьба Тиверского городка
XVIII. Столкновения с Орденом
XIX. Конец Новгородской республики
XX. Описания Приневья и рождение «пра-Петербурга»
XXI. Первые карты Озерного края и начало северной торговли
XXII. Русско-шведские столкновения ширятся
XXIII. От Тявзина к Столбову через строение Ниеншанца
XXIV. Начало шведского периода Приневья
XXV. Русско-шведская война и картографирование Ниена
XXVI. Планы перестройки Ниена и начало Северной войны
XXVII. Приход века восемнадцатого
XXVIII. 1702 год — до Нотэборгского похода
XXIX. Взятие Нотэборга
XXX. Литература и источники
Раздел 2.
НЕВА И ЕЕ ДЕЛЬТА В НАЧАЛЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ
I. О чем этот очерк
II. О топонимике и картографии Приневья
III. Путешествие от Орешка до Варяговой Нижней
IV. От Кузнецовой до Валитулы-крога
V. От Валитова до Ниена
VI. Ниеншанц и Ниенштадт
VII. От Пулколы до Обозовщины-эде
VIII. Вдоль Невы к центральным островам
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ К КНИГЕ ПЕРВОЙ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К КНИГЕ ПЕРВОЙ
Книга вторая. 1703 ГОД.
Хроника года и его загадки
Раздел 1.
ЗАВОЕВАНИЕ НИЕНШАНЦА
I. До похода на Ниеншанц
II. Поход на Ниеншанц
III. Взятие Ниеншанца
IV. Литература и источники
Раздел 2.
БЫЛ ЛИ ПЕТР I ОСНОВАТЕЛЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА?
I. Был ли Петр I основателем Санкт-Петербурга?
II. А разве кто-нибудь считает иначе?
III. Что на сей счет говорят исторические источники?
IV. Кто был автором «Юрнала» и можно ли ему верить?
V. Зачем Петр I поехал 11 мая в Шлиссельбург?
VI. Где царь Петр был с 14 по 16 мая?
VII. Был ли Петр I автором начального плана крепости?
VIII. Каковы майские реалии рукописи вне событий 16 мая?
IX. Что стало кульминацией июня в 1703 году?
X. Что происходило на Неве и вокруг нее в июле 1703-го?
XI. Каковы были реалии «корабельного» месяца августа?
XII. О завершении строения крепости и рукописи о нем
XIII. Литература и источники
Раздел 3.
ВИНО, СУДА И ФЕЙЕРВЕРКИ
I. Первый шкипер на Неве: Ауке или Ян?
II. Чем завершился 1703-й?
III. Литература и источники
ПРИЛОЖЕНИЕ
«Рассказ ефрейтора Преображенского полка Одинцова»
о заложении Санктпетербургской крепости
I. Озерный край... Приневье...
Что в этой хронике я подразумеваю под выражением «Озерный край», как называют его историки и географы?
То, что гидрографы именуют «Приневьем», то есть бассейн реки Невы.
На северо-востоке в него входит Онежско-Свирский бассейн со впадающими в него реками Суной, Шуей, Свирью и Оятью.
На северо-западе — Сайма-Вуоксинский бассейн (он большей частью находится на земле Финляндии).
На юге — Ильмень-Волховский бассейн со впадающими в озеро Ильмень Волховом, Мстой, Ловатью и Шелонью.
В центре — Ладожское озеро с бассейном средних и малых его притоков (Сясь, Паша и другие).
И, наконец, частный, как его называют ученые, бассейн самой реки Невы между истоком и устьем.
Это и есть Приневье, Озерный край.
А помимо него — сугубо исторически — меня интересовали вообще все те земли, что примыкали к Новгороду и Пскову.
Теперь — о хронологии.
Ранняя точка моего рассказа — период, когда Приневье стало освобождаться от ледника. Конечная — финал 1702 г.: время перед основанием Санкт-Петербурга.
Это — около двадцати тысяч лет, и, чтобы не «завязнуть» в них надолго, рассказ, конечно, придется повести самый что ни на есть «летучий». Однако давайте не будем по этому поводу особо переживать, а попросту двинемся в путь.
II. Первые сто семьдесят веков
Около двадцати тысяч лет назад ледник, сползший к концу ледникового периода со Скандинавского полуострова на земли Западной и Восточной Европы, начал таять, медленно отступая на север.
Вот что писал об этой эпохе в «Истории первобытного общества» питерский профессор, знаток древностей Приневья, Карелии, Прионежья и Приладожья Владислав Равдоникас:
«С прекращением ледниковых явлений плейстоцена наступает современная геологическая эпоха, или голоцен, когда естественно-географические условия в результате ряда геологических, климатических и флоро-фаунистических перемен все более и более приближались к современным нам условиям...
Благодаря остроумному геохронологическому методу, предложенному шведским ученым [Герхардом Якобом] де Геером, удалось довольно точно изучить картину отступания последнего ледника, а также исчислить время этого отступания по его отдельным последовательным фазам.
Сущность геохронологического метода заключается в следующем. Одним из характернейших типов отложений приледниковых озер являются ленточные глины, широко распространенные по всей зоне отступания ледника. Они имеют равномерно-слоистую структуру, зависящую от чередования более темных и более светлых тонких слоев или лент... На взгляд ленточные глины имеют полосатый вид 1. Они образованы талыми водами отступающего ледника за счет размывания более ранних коренных отложений...
...каждая светлая песчаная полоска ленточных глин вместе со своей соседней темной глинистой полоской соответствует годичному циклу таяния отступающего ледника точно так же, как кольцевой слой в древесном стволе соответствует годичному циклу роста дерева.
Подсчет годичных слоев в ленточных глинах на достаточно широкой территории дает возможность исчислить число лет таяния ледника на данной территории...
Так, советские ученые, изучая ленточные глины территории Карелии, выяснили, что, например, в Прионежье ледник отступал к северу со скоростью 160 м в год. На продвижение ледника от южного конца Клименецкого острова (Онежское озеро) до Медвежьей горы (расстояние около 140 км) понадобилось 600–700 лет. Подобные же наблюдения у Финского залива Балтийского моря привели к выводу, что ледник покинул широту нынешнего Ленинграда 2 12 400 лет назад.
Применяя такого рода подсчеты вместе с некоторыми другими приемами, де Геер и его последователи установили, что со времени начала отступания ледника от южной окраины Скандинавии и до нашего времени (до 1900 г.) прошло около 14 000–15 000 лет...
Изучение геологических отложений, главным образом морских террас, и содержащихся в них остатков водной фауны, главным образом моллюсков и водорослей, установило, что Балтийское море прошло через следующие основные стадии в своей послеледниковой истории…» 1)
Тут я прерву цитату из «Истории» Равдоникаса и обращусь к пересказу ряда положений другого сочинения — «Истории варваров» Виктора Ивановича Паранина: она вышла шестью десятками лет позже и зафиксировала современные представления о смене этих событий. Рождение идей шло тут по таким этапам.
В конце XIX в. (1878), описывая неолитические стоянки человека на Ладоге, геолог и археолог Александр Александрович Иностранцев обратил внимание на то, что остатки этих стоянок были перекрыты позднейшими донными отложениями. Уровень Ладоги на протяжении нескольких последних тысяч лет явно был подвержен как трансгрессиям (подъемам), так и регрессиям (спадам) ее вод.
В 1910 г. причину таких перепадов разъяснил знакомый нам шведский ученый Герхард Якоб де Геер. Он предположил, что в пору неолита сток вод из Ладоги в Финский залив проходил по руслу пра-Вуоксы по линии Приозерск—Выборг. Уровень Ладоги был тогда высок. Позднее образовалась река Нева — и сток переместился к югу: наступила регрессия — уровень озера упал.
Затем де Геер высказал мысль о том, что после отступания ледника на территории Балтики, Ладоги и Белого моря существовало почти пресное «ледниковое море» — Иольдиевое, названное так по имени ведущей формы жившего в его водах организма — моллюска иольдиа арктика.
В 1915 г. территория Иольдиевого моря была описана финским ученым Олиусом Айлио, который утверждал, что максимум трансгрессии Ладоги и последовавшее за ним образование Невы произошли около четырех тысяч лет назад — за две тысячи лет до Рождества Христова (Р.Х.).
Через два года после Айлио английский геолог Эндрью-Кронби Рамзай 3 ввел понятие о Балтийском ледниковом озере, более пространном, нежели последующее Иольдиевое море. При этом озеро — в отличие от моря — было еще и соленым.
В 20–30-е гг. XX века Константин Марков ввел промежуточное понятие о первом Иольдиевом море. Он же открыл и исследовал береговую линию более обширного Анцилового озера, названного по имени улитки анцилус флювиатилис.
В свою очередь финн Эйно Хюппя подтвердил в 60-е гг., что Иольдиевое море было достаточно мелким и, не имея возможности распространяться восточнее Карельского перешейка, в Ладогу не проникало.
Далее, уже в 70-е гг., Дмитрий Квасов отказался от концепции фазы первого Иольдиевого моря. Однако в ту же пору утвердилась идея о надобности ввести новое понятие приледникового озера Рамзая, предшествовавшего Балтийскому ледниковому озеру.
Следует добавить еще, что ученые выделяют фазы Литоринового моря (по имени его обитательницы улитки литторина литтореа), Древне-Балтийского моря, перешедшего в стадию Лимнеа (по имени улитки лимнеа овата балтика), и, наконец, современную фазу развития Балтики — Миа (по имени ракушки миа аренариа).
Что же до хронологических рамок этих стадий, то они выглядят так.
За 11 тысяч лет до Р.Х. (то есть 13 тысяч лет назад) край ледника начал отступать на северо-запад. Оставленные материковым льдом впадины стали заливаться водой. Образовалось озеро, заливом которого была Ладога, а основу составляли бассейны будущих рек Нарвы, Невы и Волхова. Возникшее Южно-Балтийское Приледниковое озеро Рамзая имело перемежающуюся связь с океаном.
Уровень озера Рамзая часто менялся, но более 12 тысяч лет назад суша в Южной Швеции сильно понизилась — и уровень озера резко упал.
Более 11 тысяч лет назад озеро Рамзая слилось с Южно-Балтийским озером — и образовалось Балтийское ледниковое озеро. Воды его частично стекали в Белое море — и уровень озера был низок. Южная Ладога была тогда сушей, северная же ее часть была значительно глубже нынешней.
Примерно 10 тысяч лет назад ледник сошел со Средней Швеции — и уровень озера упал почти на 30 метров. Так образовалось Иольдиевое море, соединившееся через пролив Нерке с океаном. Ладога впервые стала самостоятельным озером. Уровень его определялся стоком в северной части нынешнего Карельского перешейка.
Через 700 лет пролив Нерке обмелел: земная кора «дышала» — и поднялась. На его месте образовалась река Свеа. Так 9 тысяч лет назад Иольдиевое море превратилось в Анциловое озеро. А еще через 600 лет сток из озера совсем прекратился. Уровень его стал расти. На севере Карельского перешейка образовался пролив — и Ладога стала заливом Анцилового озера.
Около 8 тысяч лет назад воды озера обрели сток в Северное море через Дарсский порог и Большой Бельт. Уровень воды упал почти на 15 метров. Пролив на севере Карельского перешейка осушился и стал речкой, вытекавшей из района Хейнийоки (у поселка Вещево) и впадавшей в Выборгский залив. Порог стока Ладоги стал выше — и южная часть озера была затоплена.
8 тысяч лет назад скандинавский ледник завершил таяние. Сток рек в Балтийскую котловину резко спал. Уровень ее стал ниже, и туда начали поступать соленые океанические воды. Еще один «вдох» — и Анциловое озеро превратилось в Литориновое море.
В дальнейшем Датские проливы обмелели — и поступление соленой воды в Литориновое море сократилось, результатом чего стало постепенное превращение его — через стадии Древне-Балтийского моря (более 6 тысячи лет назад) и Лимнеа (около 6 тысяч лет назад) — в современную Балтику, «нашпигованную» ракушками миа аренариа... 2)
Свидетелем этих процессов был доисторический человек.
Многие финские лингвисты утверждают сейчас, что жители древней Суоми, как и лапландцы, пришли туда через север Скандинавии — из центра Европы, с той же индоевропейской «прародины», что и шведы с норвежцами.
Есть и другая, общепринятая пока точка зрения, состоящая в том, что финно-угры пришли к Приневью из-за Урала, заселив не только Карелию и Финляндию, но и Приобье, берега Камы, Волги, Оки, Подвинье, Заонежье, Приильменье и Приладожье.
На территории Приневья найдено множество стоянок древних людей, насчитывающих до девяти тысячелетий 3). Это — свидетельство того, что человек действительно начал осваивать эти места буквально по пятам уходящего ледника и вслед за тем, как земли Приневья стали освобождаться от вод разливавшихся тут послеледниковых озер и морей (ср. с приведенной выше хронологией этих процессов).
Итак, реальная история Приневья началась в районе 9–8 тысяч лет назад.
Вот лишь несколько примеров неолитических поселений (от 8 до 3 тысяч лет до Р.Х.) на территории Ленинградской области.
К примеру, между Выборгом и Приозерском, у деревни Корпилахта, неподалеку от древнейшего на Карельском перешейке города Антреа (ныне — Каменногорск), сохранившего, как полагают, в своем топониме, относящемся к начальной поре нашей эры, имя Андрея Первозванного (Антреа=Андрей), люди жили в IV–III вв. до Р.Х.
III. С точки зрения древних авторов
Мы не располагаем сегодня набором бесспорных исторических фактов, которые помогли бы создать точную хронологию образования и развития морского народа, описанного Александром Иностранцевым.
Конечно, кое-что нам подсказывает тут археология. В других случаях подспорьем служат легенды, предания и мифы, скандинавские саги и руны, образцы поэзии скальдов, изредка — транспонированные в прошлое обрывки древних исторических и летописных сведений. Однако, анализируя эти данные, надо постоянно помнить о сугубо легендарном их происхождении, что, правда, вовсе не дает права безоговорочно исключать их из нашего литературно-художественного и культурно-исторического обихода. Наведение тут «порядка» — дело не только довольно условное, но и значительное, увлекательное и полезное.
Именно таким методом пользовался Виктор Паранин, создавая свою «Историю варваров» 6). С этой целью он проанализировал тексты античных и более близких к нам авторов — историков и писателей, географов и путешественников, философов и ученых. Разброс этих авторов по годам громаден. От IX в. до Р.Х. и до VI в. нашего времени: Гомер и Гесиод; Анаксимандр, Гекатей и Эсхил; Геродот; Гиппократ, Демокрит и Ксенофонт; Аристотель, Александр Македонский и Клеарх; Аполлоний Родосский, Клеанф и Эратосфен; Гиппарх и Полибий; Посидоний и Страбон; Плиний и Помпоний Мела; Плутарх и Тацит; Аппиан и Птолемей; Евсевий и Евпатий; Зосима; Иордан и Прокопий Кесарийский... Нy, и в этот ряд следует поставить многие другие имена, даты, а также схолии, то есть ученые комментарии более позднего времени.
Вдумчивое и непредвзятое прочтение этих текстов привело Виктора Паранина к ряду интереснейших умозаключений, имеющих отношение прежде всего к предмету нашего повествования — истории древнего Озерного края.
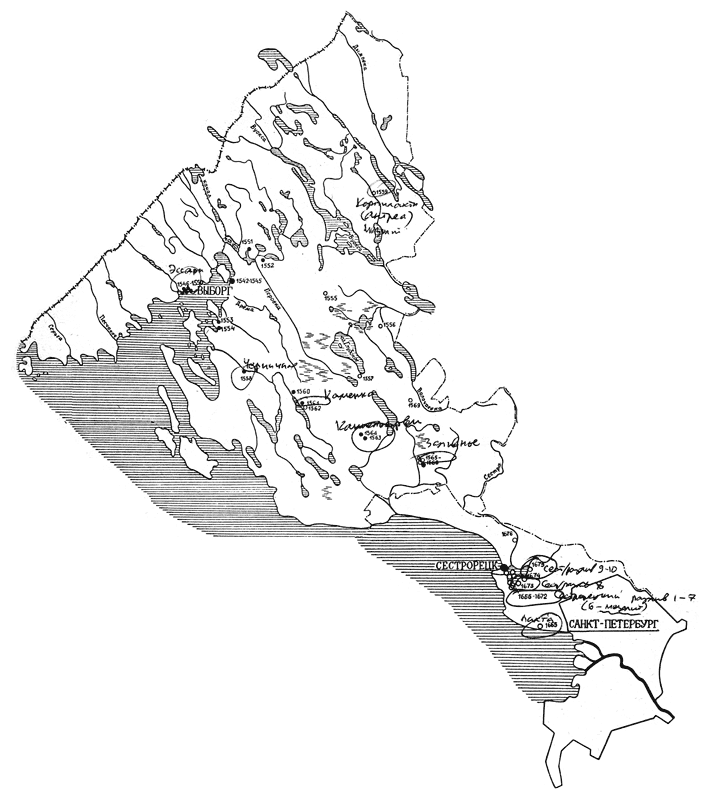
Карта-схема расселения неолитического человека на территории Карельского перешейка и Приневской долины (по В. А. Лапшину).
Еще в V в. до Р.Х. Геродот писал о «большом озере», которое служило водоразделом между жившими на юге скифами и обитавшими на севере неврами.
Этот громадный водораздел простирался от нынешнего Финского залива (то есть от Балтики, которую древние греки называли «Кронийским заливом») до Черного моря («понта Эвксинского», то есть Гостеприимного). Водоем этот античные авторы именовали «понтом Авксинским» — Негостеприимным, а потом — Меотийским озером, или Меотидой.
Вот об этой Меотиде надо поговорить подробнее.
Меотийское озеро не следует путать с Меотийским морем, как уже в I тысячелетии по Р.Х. стали именовать Азовское море. Поскольку Меотийское озеро лежало западнее Меотийского моря, мы и будем различать Западную (озеро) и Южную (море) Меотиду.
Меотийское озеро лежало на западных склонах Среднерусской возвышенности (Рипейских гор) и простиралось с севера на юг от Балтики через леса Полесья и русло Днепра-Борисфена к Черному морю. Западная Меотида подпитывалась северными водами как Балтики, так, вероятно, и Белого моря и, в свою очередь, питала этими водами как понт Эвксинский (то есть Черное море), так и «Маре Нострум» (то есть Средиземноморье).
У озера Меотиды была и другая функция: оно было удачным водным путем, который способствовал плаваниям древнего северного «морского народа» в южные европейские края и, соответственно, наоборот — путешествиям народов южных по направлению к северу.
В этом смысле нас поражают сегодня некоторые античные тексты и более поздние схолии (комментарии) к ним, рассказывающие о титанах, Аполлоне, Прометее, атлантах, Ио, Геракле, о походах аргонавтов, об Ифигении и Артемиде, об Ахилле и ряде других героев древнегреческих мифов, а также о древних племенах и народах (гипербореях и колхах, таврах и аорсах, аланах и халивах, савирах и амазонках): все они тем или иным образом имели отношение к северным землям, которые к нашему времени уже перестали быть нордической частью западной Меотиды, поскольку сама она уже давно навсегда исчезла, превратившись в полесские болота, речки и озера края, что так теперь и называется — Озерным.
Надо тут сказать и еще об одном географическом представлении античности.
Согласно воззрениям того времени, Каспийское море воспринималось древними как «залив Северного океана». Под этим «Северным океаном» (часто — просто Океаном) подразумевалось нынешнее Балтийское море, ибо через проливы и Северное море Балтика соединялась с Атлантикой. В свою очередь, Каспий соединялся с Балтикой через полноводную Волгу, достигавшую северной части Меотиды, а также восточной части Финского залива. Именно в силу этого обстоятельства древние авторы называли Волгу «проливом Каспийского (Джурджанского) моря».
Вся эта картина дает, во-первых, представление о том, каково было гидрографическое состояние Восточной Европы от Балтики до Черноморья и Каспия (нетрудно заметить, что картина эта была совершенно не похожа на современную). А во-вторых, мы можем представить и расшифровать гидрографические воззрения античных времен, без этой расшифровки кажущиеся непонятными и даже бессмысленными.
Держа в памяти эти воззрения древних авторов, а также не забывая о явной легендарности многих сведений, имеющихся в легендах, мифах, сказаниях, сагах и других созданиях творческой народной фантазии (содержащих, вероятно, и вполне реальную подоплеку), мы можем составить довольно обширный хронологический ряд, события которого так или иначе связаны с давней историей Приневья.
Представляю эту хронику читателю.
Опорой тут послужат исландские королевские саги и шедевры поэзии скальдов, а также «Деяния данов» Саксона Грамматика (на русский язык пока не переведенные — я пользовался английским переводом) и «Круг Земной» с «Младшей Эддой» Снорри Стурлусона, содержащие бесценные и мало еще освоенные сведения, касающиеся древнейшей нашей истории 7).
Необходимо, естественно, использовать и многие соединенные (весьма разномастные) труды современных отечественных и зарубежных ученых. Назову лишь некоторые из них: весьма выборочно, с одиночными примерами, в алфавитном порядке.
Это, скажем, «Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи» Николая Беляева, «Происхождение карельского народа» Дмитрия Бубриха, «Древняя Русь» Георгия Вернадского, «География Восточной Европы в сагах о древних временах» Галины Глазыриной, «Исландские королевские саги о Восточной Европе» Татьяны Джаксон, «Ладога и Ладожская земля VIII–XIII веков» Анатолия Кирпичникова, «Корела и Русь» Светланы Кочкуркиной, «Эпоха викингов в Северной Европе» Глеба Лебедева, «Русь и норманны» Хенрика Ловмяньского, «Очерки по истории русской культуры» Павла Милюкова, «Докиевский период истории Восточной Европы» Александра Назаренко, «Новгородское (Рюриково) городище» и другие исследования на эту тему Евгения Носова, «Историческая география летописной Руси» Виктора Паранина, «Географические названия. Введение в топонимику» Александра Попова, «Thе Origin of Rus» Омельяна Прицака, «История первобытного общества» Владислава Равдоникаса, «Древняя Русь. Сказания. Былины. Легенды» Бориса Рыбакова, «Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.» Елены Рыдзевской, «Норманская проблема в отечественной исторической науке» Александра Хлевова, ряд современных изданий, коллективных сборников или материалов научных конференций («Летописи и хроники» со статьей Игоря Шаскольского «Известия Бертинских анналов в свете данных современной науки»; «Викинги и славяне» со статьей Ингмара Янсcона «Русь и варяги»; «Новгородские археологические чтения» со статьями Валентина Седова «Первый этап славянского расселения в бассейнах озер Ильмень и Псковского», Готфрида Шpaмa «Ранние города Северо-Западной Руси: исторические заключения на основе названий» и Валентина Янина «Основные исторические итоги археологического изучения Новгорода»). Завершу этот список серией очерков «Из истории Приневья» Александра Шарымова, опубликованных журналом «Аврора» в № 9, 10—1994; 4, 6, 8, 10—1995 и 3, 6—1996 8.
Итак, примерно за 25–20 тысяч лет до Р.Х. — в так называемую эпоху Ориньяка — обширные массы переселенцев, покинув Центральную Европу, прошли по южнорусским степям за Урал и двинулись через Сибирь к океану.
10 тысяч лет спустя началось обратное движение этих кочевников за отступающим ледником к Уральским горам. По пути большие группы финно-угорских народов, оставаясь на территории Восточной Европы, образовывали и по сию пору существующие этнические соединения. Общее движение шло к Прискандинавью.
Около 12 тысяч лет до Р.Х. последняя часть этих кочевников достигла восточного побережья Ботнического залива и осталась тут, заселив территории южной Финляндии и Карелии.
Началось постепенное расслоение номадских племен на будущих финнов, карел, ижорцев, чудь, вепсов...
К земле, лежавшей «севернее дуновения Борея», устремлялись взоры путешественников, историков, завоевателей юго-западной Европы.
В XXX в. до Р.Х. на территории Приневья и нынешней Белоруссии зародилась особая неолитическая культура «морского народа», населявшего этот ареал.
В XXIV в. состоялся мифический поход из скифского Причерноморья на север князей Славена и Скифа. Пропутешествовав почти 40 лет, князья, по сведениям Иоакимовской летописи и древнерусских хронографов, прибыли к Ильменю, где в 2360 г. основали город Славенск.
В середине ХХIV в. аккадский (древнемесопотамский) царь Саргон, которого древние греки называли Гераклом, дошел, по свидетельству античных авторов, до Океана (то есть до современного Финского залива Балтийского моря). Новейшие схолии утверждали, что именно там Саргон-Геракл создал некие памятники, именовавшиеся позже «Геркулесовыми столпами».
ХХI–ХХ в. — в Озерном крае проходившие тут с запада на восток и к югу арийцы оставили неолитическую Фатьяновскую культуру.
В ХIX в. египетский властитель Сесострис совершил военный поход на север, достигнув ареала прибалтийской части Меотийского озера.
ХV в. — Фатьяновская бронзовая культура в Озерном крае.
Конец ХV в. — начало исхода лужичан с индоевропейской прародины — из центральной части Европы — на северо-восток, к Ильменю.
В XII в. экипаж легендарного «Арго», согласно позднейшему сообщению Аполлония Родосского, совершил поход по восточноевропейским водным артериям, проплыв водными путями будущего Озерного края и Приневья, после чего, по одним схолиям, спустился к Причерноморью по Meотиде, а по другим — обогнув Европу и проплыв по Средиземноморью, — вернулся в Грецию.
С Х по VII в. (пo Георгию Вернадскому) в будущей Южной Руси владычествуют киммерийцы, которых историки стали впоследствии ассоциировать с племенем «кимвров» (они будут иметь гипотетическое отношение и к судьбам Озерного края).
IX в. — эпоха раннего железа в ареалах Урала и будущей Северной Руси.
В VIII в. Гомер упоминает в «Илиаде» ряд северных народов: «гиппемолгов» (доителей кобыл), «галактофагов» (поедателей кислого молока), «абиев» (неимущих) и «номадов» (кочующих); все эти племена в поэме — скифские.
В этой связи уместно вспомнить, что, по сведениям Клеарха, скифы к гомеровой поре пережили упадок и из преуспевающего, процветающего и даже пресыщенного племени превратились в полудиких кочевников.
С другой стороны, стоит здесь yпомянyть о тoлкoвaнии более позднего, разумеется, этникoнa «корела».
Слово «kаrjа», которое можно соотнести с этниконом «karjalainen» (карел), означает «стадо», «скот» («kаrjаnnoitto», в свою очередь, означает «животноводство», «скотоводство»). В этом смысле любопытно сопоставить «животноводческие» значения этниконов северных народов у Гомера с их финно-угорскими «побратимами», обозначающими конкретный карельский этнос (можно добавить еще, что рядом с этниконом «suomalainen», то есть финн, соседствует опять-таки «скотоводческое» понятие «suomia» — «бить рогами»).
В VIII–VII вв., в пору составления Ветхого завета Библии, греческий поэт Гесиод тоже называл скифов «гиппемолгами», совсем по Гомеру.
И теперь, поскольку речь зашла о времени создания начального ветхозаветного библейского текста, имеет смысл вспомнить об одном эпизоде, который связывали не только с самой Библией, но и с историей Руси и русов.
В библейской «Книге пророка Иезекииля» (VII—VI вв. до Р.Х.) есть такой пассаж:
«Сын человеческий, обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешexa и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!» 9).
Из приведенного отрывка ясно, что Poш, Meшex и Фувал — это территории, принадлежащие князю Гогу, находящиеся в его земле, именуемой Магог.
Однако историки и проповедники будущих лет (вплоть до нашего времени!), перепутав все на свете, станут утверждать, что Иезекииль будто бы впервые в истории упомянул тут о «народе рош», то есть о русах, а также об их «князе Рош». На самом же деле в VII–VI вв. до Р.Х. ни о каких «рошах» и «росах» речи идти не могло: время русов настанет лет примерно через шестьсот...
С VII до Р.Х. по II в. нового времени, оправившись от потрясений, но не изменивши суровому полукочевому образу жизни, скифы владычествовали не только на территории будущей южной Руси, но и во всей, по сути дела, Восточной Европе, в силу чего уже много позднее скандинавские саги и скальдические песнопения называли восточноевропейские земли Великой Скифией, включая в этот ареал и Скандинавию, и, естественно, Озерный край с Приневьем.
Здесь следует упомянуть, что к 560 г. до Р.Х. относится первое внятно датируемое упоминание о северном народе гипербореев. Народ этот заслуживает рассказа и более пространного, и отдельно выделенного.
560 г. был годом очередной греческой Олимпиады. Тогда на остров Делос явился некий мудрый человек по имени Абарис (Абарид), говоривший, что он прибыл из далекой северной страны гипербореев.
Гипербореи не впервые посещали Грецию и храм на острове Делос, посвященный легендарному богу Аполлону. В храме этом нашли упокоение гиперборейские женщины и девушки с именами Арга, Опис, Гипероха и Лоидика. Их могилы тоже были местом поклонения.
Абарис пришел на Делос с дарами и с золотой «стрелой Аполлона». Делосцы знали, что у гипербореев был развит культ Аполлона, поскольку на далеком северном «острове гипербореев» родилась Латона — мать Аполлона и Артемиды. Согласно мифу, Латона, преследуемая ревностью Геры, бежала с северного острова в Грецию, которой достигла за двенадцать дней, — и родила дочь с сыном на острове Делос, выросшем в море по велению Зевса. Принеся дары в храм Аполлона на Делосе, Абарис отправился затем в Кротен (Южная Италия), где познакомился с Пифагором, который до конца своих дней гордился знакомством с двумя великими мудрецами — Абарисом и Заратустрой.
В конце VI в. до Р.Х. о гипербореях было написано и отдельное сочинение, до нас не дошедшее, но сохранившееся в более поздних пересказах. Об авторе этой книги (она так и называлась — «О гипербореях») спорят: одни называют его Гекатеем Милетским, другие полагают, что это был Гекатей Аваридский.
Гекатей утверждал, что гипербореи существовали «до его времени», что, впрочем, не мешало многим другим историкам писать о гипербореях как о реально существующем народе еще почти тысячу лет спустя.
Гекатей сообщал, что гипербореи жили на острове величиной не менее Сицилии, находившемся на Океане, то есть в районе Балтики. На острове — отличная почва; его окружает благотворный воздух. Гипербореи — жрецы Аполлона, которому посвящена роща и шарообразный храм: к нему дважды в год слетается масса лебедей, заводящих тут свои птичьи песни, когда у храма начинают струнную игру кифареды — народные музыканты-гипербореи, играющие на кифарах.
Эти сведения дали возможность Виктору Паранину локализовать остров гипербореев на месте нынешнего Карельского перешейка, который до начала ХVIII в. нашего времени был островом (Финский залив—Нева—Ладога—Вуокса, соединявшая Приозерск с Выборгом) 10). В районе Лахтинского разлива и ныне дважды в год останавливаются тысячи перелетных птиц. И не исключено, что, может быть, именно на его берегу и стоял храм Аполлона. А в греческих «кифарах» вполне можно увидеть более поздние кантеле карелов и финнов.
Нe позднее же VI в. Дионисий Малый упоминает о местожительстве гипербореев в районе Рипейских гор (судя по всему, древние подразумевали под этим именем нынешнюю Валдайскую возвышенность).
Греческий поэт Пиндар (VI–V вв.) «располагал» гипербореев в верховьях Истра, что не дает точной локализации их местожительства, ибо гидроним «Истр» кочевал по географической карте (как, скажем, гидронимы «Аракс» и «Танаис» или та же «Меотида»). Эсхил, к примеру, писал, что Истр течет с Рипейских гор — с земли гипербореев.
В V в. Геродот упомянул о гиперборейских женщинах, похороненных на Делосе, но сам историк в существование гипербореев вообще не верил.
Несмотря на это неверие отца истории, рассказы о гипербореях перекочевали и в новую эру.
В схолиях к Аристотелю, созданных, вероятно, через пятьсот лет после жизни великого философа — в начале нового тысячелетия, — говорится, что древние греки жили посередине между арктическим поясом, близким к Северному полюсу, и летним, тропическим, причем «скифы-русь и другие гиперборейские народы живут ближе к арктическому поясу». На принадлежность к новой эре указывает тут термин «скифы-русь», который во времена Аристотеля существовать не мог, хотя в Иоакимовской летописи и наших хронографах содержится упоминание о правлении в пору Александра Македонского, ученика Аристотеля, то есть около 330 г. до Р.Х., «старорусских князей» Асана, Алехосана и Великосана.
В 44 г. уже по Р.Х. Помпоний Мела сообщает об антах, что они живут «выше гипербореев и амазонок»… Если учесть, что антов многие историки единодушно ассоциируют с асами, или рухс-асами (об этом — ниже), а также с аланами, то надо полагать, что во второй четверти I в. факт появления рухс-асов в местности «выше гипербореев» был уже известен в Европе.
В I же в. Плиний Старший писал о земле гипербореев, что она находится на границе Европы и Азии.
В I и II вв. ряд сведений о гипербореях оставили нам Тацит и Плутарх.
Автор V–VI вв. Стефан Византийский знал даже название острова гипербореев: Елисий, или Элисия. Повторяет Стефан и размеры острова, уподобляя его Сицилии. Жителей же острова именует карамвиками — от названия реки, омывающей его, — Карамвика. Правда, Стефан тут же приводит мнение Плутарха, будто гипербореи жили возле Альп.
Пора, вероятно, подвести кое-какие итоги.
Откуда вообще могли появиться гипербореи, когда заселили свой остров?
Их называли «тысячелетними». Суть прозвища, вероятно, не в личном их долголетии, а во времени их появления в районе Приневья, на европейском Северо-Западе.
Автор термина «тысячелетние» — Геродот. Если отнять от времени его жизни тысячу лет, то получим дату: 1500 г. до Р.Х. Это — время образования Фатьяновской бронзовой культуры. А это дает основание считать гипербореев наследниками прошедших тут ранее ариев.
Далее. Куда гипербореи в конце концов подевались?
Никаких известий об их исходе из района Приневья мы не имеем. Так что остается предположить: гипербореи растворились в других этносах, населявших эти земли и, в частности, «остров гипербореев» (не он ли стал впоследствии «островом русов», когда русы появились в этом районе? По крайней мере, Виктор Паранин именно так и полагает).
«Свидетельства» же историков новой эры о гипербореях — это не что иное, как воспоминания о сведениях прошлых лет, точного знания о которых историки этой новой поры уже не имели.
Вероятно, народ этот себя «гипербореями» не называл.
«Гипербореи» — слово греческое, означает «над Бореем», «выше места жительства Борея» (Борей — мифологический бог северного ветра; в переносном смысле — собственно северный ветер). Термин «гипербореи», как видим, имел описательное значение, пояснял, что народ этот занимает, по выражению Гекатея, земли «дальше дуновения Борея». Ясно, что сами гипербореи так называть себя не могли.
Не исключено, что их самоназвание несло в себе некое буквенное значение, позволившее древним ассоциировать их с греческим северным ветром. Мне все время приходят в этом смысле на ум этногеографические понятия «бьярмоны», «Биармия», «Барма», «Бьярмаланд», «бермята», «Пермь» (последнее — в палатализованном, смягченном угро-финском звучании, в отличие от предыдущих звонких германских).
Генезис слова «Бьярмаланд» темен и точно неизвестен. Ясно лишь, что слово это состоит из трех составных: «Бьяр=биар» + «маа» + «ланд», причем последние два и по-угро-фински, и по-германски означают «земля», подобно географическому понятию «Ингерманландия»: «Ингер» + «маа» + «ланд», буквально «Земля прекрасной земли», то есть в нашем случае германцы к угро-финскому «Бьяр-маа» добавили свою «землю» — «ланд». В таком случае остается лишь «опознать» составную «бьяр», «бар».
В финно-угорском с его смягченным «п» вместо звонкого германского «б» можно отыскать подходящие варианты: скажем, «раr а» — «лучший» (раr а с «ингер» — «инкери» — «прекрасный» в слове «Ингерманландия»); другой вариант: «роrо» — «северный олень». Так что в первом случае название толкуется как «Земля наилучших земель», а во втором — как «Земля земель северных оленей».
Не от таких ли первоисточников вошел в греческий язык «сходный по звучанию» этноним «гипербореи»?
Впрочем, на этом сакраментальном вопросе можно обзор греко-римских рассказов о гипербореях завершить и вернуться назад, к нашему повествованию, которое мы прервали на V в. до Р.Х.
В IV в. Клеарх сообщил, что в жизни скифов, распространенных на территории Восточной Европы от южных степей до северобалтийских областей, произошел период «опрощения», и от бытия зажиточного и преуспевающего они перешли к более бедному и лишенному всяческой роскоши.
Около 330 г. Пифей из Массалы (он же — Питеас из Марселя) совершил путешествие, во время которого обогнул Испанию и Галлию, вошел в Балтику — и оставил описание расположенного к северу от Балтики острова Фулы (Туле). Затем он через Меотиду вышел в Черное море, откуда вернулся на родину. Виктор Паранин дает понять, что остров Фула — не что иное, как будущий «остров русов» (а в прошлом — «остров гипербореев»?).
Видимо, путешествие Пифея было одним из последних, пролегавших через Меотиду, ибо от начала и до конца IV в. водоем этот стал пересыхать и в конце концов прекратил существование как водный путь.
В III в. Аполлоний Родосский создал «Аргонавтику», в которой описал «кружной» путь аргонавтов, проходивший через Балтику.
В период со II в. до Р.Х. по II в. новой эры скифская эпоха на территории Восточной Европы сменилась сарматской.
II в. до Р.Х. можно датировать отраженное в российских хронографах легендарное правление славянских князей Лалеха и Лахерна, совершивших поход на Византию, во время которого Лахерн погиб.
В период со второй половины II в. до середины I в. шло переселение с востока на земли Восточной Европы сарматских племен языгов, роксоланов, сираков, аорсов и аланов, а также асов, или рухс-асов. О последних пойдет сейчас речь.
IV. Рухс-асы идут на север
Прекрасно эрудированный русский историк Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) излагает в книге «Древняя Русь» такую картину заселения земель нынешней Южной России обитавшими поначалу очень далеко от нее сарматскими племенами, которые впоследствии обнаружили свою несомненную близость:
«Мы можем предположить, что около 127 г. до н. э. анты или ас жили поблизости Аральского моря, т. е. в современном Казахстане...
...китайские хроники отождествляют аланов с антами. Отсюда следует, что анты римских авторов и асии греческих были различными транскрипциями одного имени...
...кавказское племя осетинов, или ос, в ином звучании ас, имело, возможно, смешанное алано-яфетическое происхождение...
Первыми в черноморских степях появились язиги. За ними последовали роксоланы, затем сираки и аорсы. Аланы были последними из пришельцев...
Первая часть имени „роксоланы“ происходит от иранского „рукхс“, что означает „светлый“. Итак, имя „роксоланы“, очевидно, означало „светлые аланы“...
Племя антов, как мы предполагаем, первоначально контролировалось аланскими родами. Некоторые из них стали известны как рухс-ас (светлые асы).
Возможно, от их имени произошло позже имя „русь“. В любом случае именно с антами начинается собственно русская история» 11).
А теперь мы обратимся к событию, отнесенному, по преданию, к 70-м годам до Р.Х.
Оно нашло художественное отражение в двух произведениях великого исландского поэта Снорри Стурлусона (1178–1241) — «Младшей Эдде» и «Круге Земном», отрывки из которых я приведу ниже.
Отрывки эти интересуют нас потому, что речь в них идет о рухс-асах, их верховном правителе и месте их расположения — начальном и итоговом:
«К северу от Черного моря расположена Великая, или Холодная Швеция 1...
Страна эта в Азии, к востоку от Танаквисль 2 — называется Страной Асов, или жилищем Асов, cтолицa стрaны называется Асгард...
Правителем там был тот, кого звали Один...
В то время правители римлян ходили походами по всему миру и покоряли себе все народы 3...
Так как Один был провидцем и колдуном, он знал, что его потомство будет населять северную окраину мира» 12).
Так говорится о побудительном мотиве похода Одина в «Круге Земном». В «Младшей Эдде» мотив этот изложен чуть иначе:
«Одину и жене его Фригг было пророчество, и оно открыло ему, что его имя превознесут в северной части света и будут чтить превыше имен всех конунгов. Поэтому он вознамерился отправиться в путь...
Он взял с собою множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, и много драгоценных вещей. И по какой бы стране ни лежал их путь, всюду их всячески прославляли и принимали скорее за богов, чем за людей.
И они не останавливались, пока не пришли на север в страну, что зовется Страною Саксов. Там Один остался надолго, подчинив себе всю страну» 13).
«Круг Земной» показывает несколько иной путь Одина:
«Он направился в путь и с ним все дии и много другого народа. Он отправился сначала на запад в Гардарики, а затем на юг, в Страну Саксов» 14).
* * *
Здесь надо уточнить три обстоятельства.
Первое касается отправной точки похода Одина и относится к нашим дням.
Известный норвежский путешественник и исследователь Тур Хейердал на основе книг Снорри выдвинул гипотезу о том, что асы жили на берегах Азовского моря, — и начал раскопки в Азове, первый этап которых завершился 10 июля 2001 г. и доказательств никаких не принес. Продолжить раскопки Хейердалу помешала смерть (2002 г.). Одно несомненно: Хейердал верил в историчность Одина и его похода. Связь понятий «Асгард», «асы» и «Азов» тоже очевидна.
Второе обстоятельство касается уже непосредственно самого похода Одина.
Один взял в свой поход множествo народа. Однако не всех рухс-асов. Он оставил на родине двух своих братьев, а с ними большое число соплеменников.
Так произошло разделение рухс-асов на две части: одна отправилась на север — и вскоре получила там имя русов. Вторая осталась на родине — и их спустя многое время по аналогии с северянами, которые к тому времени стали хорошо известны, тоже начали называть русами.
Таким образом, полтысячелетия спустя русы стали существовать в двух ипостасях: северной и южной — условно говоря, русы-северяне и русы-южане.
Третье обстоятельство касается понятия «Гардарики».
«Гардарики» — название скандинавское (не угро-финское). Этим термином традиционно именуется Древняя Русь. Германское — твердое — «Гарда» в угро-финском трансформируется в мягкое «кардья» с исчезновением смягчающегося «д».
Еще в 1947 г. Дмитрий Владимирович Бубрих в книге «Происхождение карельского народа» отмечал, что в этнониме «кирьялар» отразилось архаичное название древнекарельского населения, приближенное к исходной форме «кирьяла», восходящей к балтийскому «гирья», «гарья» = «гора». Так что небезосновательно Виктор Паранин утверждал в «Исторической географии летописной Руси», что «гарда» и «карья» — «это одно и то же, поскольку вторая форма легко выводится из первой» через переходное «кардья».
Иными словами, «Гардарики» в этом случае не «земля городов», как обычно толкуют этот этноним исследователи-скандинависты, а «земля Гардов», то есть синоним «Кирьялаланда», «земли карел».
Таким образом, «Гардарики» как этноним существовал задолго до появления понятия «Гардарики» как обозначения Древней Руси, которой ко времени образования архаичного этнонима просто еще не существовало.
Когда северные русы (бывшие рухс-асы) прибыли в Скандинавию, хороним «Гардарики» мог уже существовать и означать этническое понятие, к руси не относящееся. Слияние же понятий «Гардарики» и «русь» действительно произошло, но позднее, о чем и пойдет речь ниже...
* * *
А теперь вернемся в конец первого дохристианского века, когда рухс-асы во главе с Одином еще только появились в Прискандинавье.
Обратимся еще раз к «Младшей Эдде» и «Кругу Земному» Снорри Стурлусона.
Достигнув, по «Младшей Эдде», Страны Саксов, Один оставил там, а также в Вестфалии и Стране Франков правителями троих своих сыновей, а сам «пустился в путь на cевер» и прошел Страну Готов, поставив там правителем сына Скьёльда.
«Потом Один направился еще дальше на север, в страну, что зовется теперь Швецией. Имя тамошнего конунга было Гюльви. И когда он узнал, что едут из Азии эти люди, которых называли асами, он вышел к ним навстречу и сказал, что Один может властвовать в его государстве, как только пожелает. И им в пути сопутствовала такая удача, что в любой стране, где они останавливались, наступали времена изобилия и мира. И все верили, чтo этo твoрилoсь по их воле. Ибо знатные люди видели, что ни красотою своей, ни мудростью асы не походили на прежде виданных ими людей.
...После того Один... поехал на север, пока не преградило пути им море... Асы взяли себе в той земле жен, а некоторые женили и своих сыновей, и настолько умножилось их потомство, что они расселились по всей... северной части света, так что язык этих людей из Азии стал языком всех тех стран» 14). (Стоит, правда, помнить при этом, что языковая основа карельского и финского этносов сложилась — и не изменилась — еще в середине I тысячелетия до Р.Х.)
И еще об одной особенности асов говорит «Младшая Эдда». Вот отрывок из характеристики Бальдра, второго сына Одина:
«Второй сын Одина — это Бальдр... Tак он прекрасен лицом и так светел (выделено мною. — А. Ш.), что исходит от него сияние» 15).
А вот характеристика еще одного сына Одина:
«Есть аc по имени Хеймдалль, его называют белым (выделено мною. — А. Ш.) асом» 16).
Как видно, эпитет «светлый», «белый» — из числа наиболее почитаемых у асов Одина. А мы хорошо помним, что эпитет «светлый» входит неотторжимой частью в понятие «рухс-ас», «светлый ас», прародитель понятия «рус»...
И теперь — краткая цитата из «Круга Земного»: в ней встречаем еще ряд подробностей о приходе и жизни Одина и его асов в Прискандинавье.
«Он (Один. — А. Ш.) завладел землями по всей Стране Саксов и поставил там своих сыновей правителями. Затем он отправился на север, к морю, и поселился на одном острове — том, что теперь называется Остров Одина на Фьоне 4...
[Потом] Один поселился у озера Лег, где место называется теперь Старые Сигтуны 5» (См. примеч. 12).
Там, в Средней Швеции, Один и умер. После смерти он, как говорят предания, отправился на родину, в Асгард, но не раз являлся в Скандинавии (последний раз — в 770 г., в битве при Бравалле).
Ну, а рухс-асы начали с той поры свое превращение в просто русов, а потом — в русов-варягов. Этому их превращению сопутствовала одна особенность.
Снорри пишет:
«Один ввел в своей стране те законы, которые раньше были у асов» 17).
Не исключено, что законы эти передавались от поколения к поколению не только в виде устной традиции: может быть, они как-то фиксировались и письменно. По крайней мере, девять столетий спустя, создавая славянский алфавит, Кирилл и Мефодий основывались на некоей «русской грамоте», имевшей хождение в Крыму: можно предположить, что это была «грамота» рухс-асов — южан.
Как динамичный новый этнос, рухс-асы сильно влияли и на соседствующие этнические группы, в которые рухс-асы вливались мирным путем. Причем они не просто вливались в эти соседствующие этносы. Они передавали этим этносам свое имя!
Позже, когда русы-варяги двинулись с севера к югу, они передали свое этническое имя — «русь» — балтийско-приильменскому межплеменному союзу. А затем киевским полянам и окружающим племенам. Так возникло мощное государственное образование — Древняя Русь.
Но это произошло уже к концу IX столетия до Р.Х. В начале же I в. рухс-асы, становившиеся постепенно русью, передали свое имя самым ближайшим территориальным соседям — карелам.
Процесс этот был постепенным и многовековым.
Карельский этнос, уже к середине I тысячелетия до Р.Х. овладевший сложившейся языковой основой, на рубеже эпох бронзы и железа (то есть примерно к сотому году до Р.Х.) состоял из двух соперничающих частей — северной и южной.
Тут надо заметить, что и северяне, и южные народы, ориентируясь по солнцу, обозначали север черным цветом, юг — красным, запад — белым, а восток — синим. Поэтому в противостоянии двух частей карельского этноса, нашедшем позже поэтическое отражение в «Калевале», северяне обозначались черным цветом, а южане — красным. А красный цвет в прибалтийско-финских языках звучит как «ruskei».
Спрашивается, случайно ли это противоборство южан и северян совпало с появлением в Восточной Скандинавии рухс-асов? Случайно ли южные карелы приняли имя «рускей» (красный) практически одновременно с появлением русов — рухс-асов на своей территории? Или эта цветовая бело-красная чересполосица не была случайностью?
Безусловного ответа на эти вопросы не существует. Однако фактом является то, что в некоторых языках (скажем, в саамском) этноним «карел» обозначается словом «русский», то есть связь между карелами и русскими подтверждается. Фактом является и то, что карелы таинственным образом исчезли из списка прибалтийско-прискандинавских народов и племен вплоть до XII в., о чем свидетельствует «Повесть временных лет» (ПВЛ).
Уведомляя в ПВЛ о разделе Земли между сыновьями Ноя, летописец Нестор пишет:
«Иафету же достались северные страны и западные...
В странах же Иафета сидят русь 6, чудь и всякие наpoды: мepя, мypoмa, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляxи жe и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: отсюда к востоку — до пределов Сима, сидят по тому же морю и к западу — до зeмли Английcкoй и Вoлoшcкoй.
Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуэзцы и прочие» 18).
Как видим, в этом списке отсутствуют два хорошо известных нам этнических названия: карела и ижора. В то же время дважды упоминается русь: на северном и на южном побережьях Финского залива. Не составляет труда сделать естественный вывод: именно русь и заменила собой в ту пору оба этнически родственных имени — и карел, и ижору. Придет время, и карельско-ижорский этнос вернет свои имена. Но пока видно, как русь «подмяла» оба эти этноса под себя...
Прежде чем вернуться к хронологии древнего Приневья, стоит прояснить еще содержание понятия «варяги», а также «варяги-русь», неоднократно употребляемое Нестором в ПBЛ. Он пишет:
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти прозывались».
Из этого высказывания летописца легко извлекаются две истины. Первая: русы не были ни шведами, ни норвежцами, — вообще не были норманнами в широком смысле слова, — ни англами, ни готландцами, — Нестор четко отделяет русов ото всех остальных варягов.
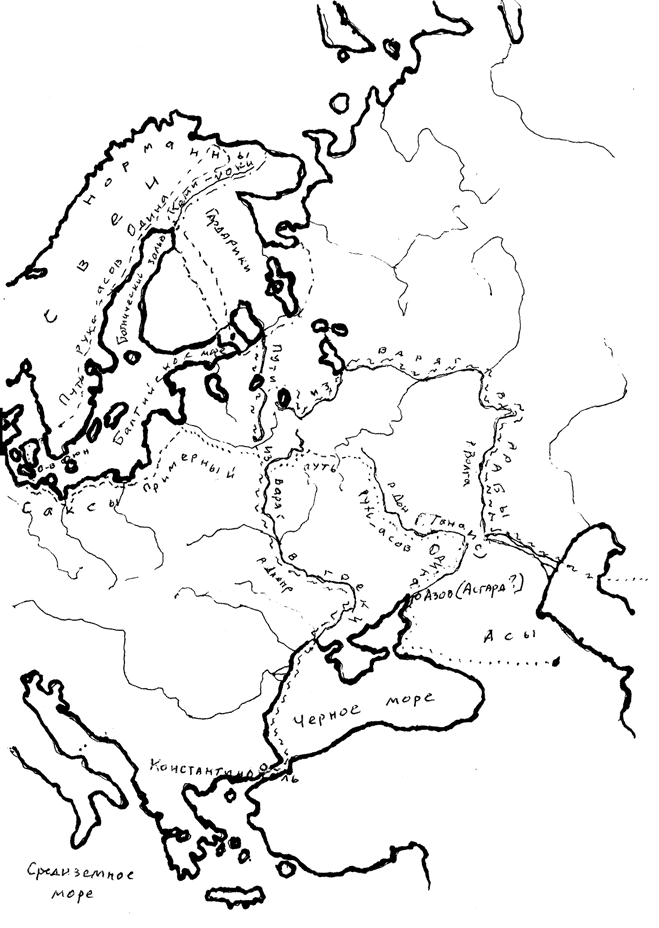
Карта-схема путешествия бога германцев и скандинавов Одина (по «Хеймскрингле», то есть «Кругу Земному» Снорри Стурлусона).
К северу — на корельские, саксонские и скандинавские земли — Один двинулся с юга, из мифологического города Асгарда.
Судя по названию и самого этого города, и народа, в нем жившего (асов), Асгард находился на землях «рухс-асов», о которых пишет Вернадский.
Вторая: термин «варяг» не имеет этнического содержания. Он применим ко множеству разнородных этносов; это — термин, во-первых, территориальной, прискандинавской принадлежности, во-вторых, несущий социальную нагрузку (учитывая, что «vааr» в финно-угорских языках означает «возвышенность», «сопку», «холм», «гору», нетрудно понять, что «варяг» обозначает социальную группу «верховников», социально высокую группу населения, соотносимую с российским дворянством, а потому и обозначающую руководящую силу общества), а в-третьих, термин этот характеризует и определенный образ жизни, связанный с тягой к путешествиям, торговым экспедициям и, естественно, к разбою.
Кстати, никакого отношения к славянскому понятию «ворог», «враг» это слово не имеет: это — домыслы поверхностных дилетантов.
С каких же пор русы стали главенствовать над карелами и ижорцами, принявшими на время их этническое имя?
Точного ответа на этот вопрос мы не знаем, но есть два исторических факта, дающих нам ключ к понимaнию.
В конце VII—начале VIII вв. в Гардарики (мы помним, что этим словом обозначалось тогда государство Гардов, то есть земли карел) властвовал конунг Радбард (Краснобородый), носивший титул Гардский: об этом сообщает в своем труде «Деяния данов» хронист начала XIII в. Саксон Грамматик.
Но уже к концу VIII столетия внук Радбарда Гардского — Регнальд, сын Рандвера, — по сообщению того же Саксона Грамматика, носил титул «Русский». Радбард, Рандвер, Регнальд властвовали над одним народом: тем, чьи владения начинались восточнее города Кирьялаботнара на границе со Швецией в вершине нынешнего Ботнического залива — границы Карелии были тогда иными, нежели ныне. Этот народ и именовался на прибалтийско-финский манер «карья», «кирья», а на германский — «гарды», то есть по-нашему — «корела», «карелы». К концу VIII столетия он и принял имя нового для Прискандинавья этноса — русов. Эти русы были уже варягами — верховенствующим сословием в освоенной ими части Прискандинавья.
Но в силу чего же русы обрели к концу VII в. такое значение в среде карел, населявших эти места в течение двух с лишним тысячелетий?
Для ответа нам надо последовательно пройти по многоступенчатой истории нового времени: именно тут обнаружатся ступени, с которых русы, становившиеся варягами, начали свой исторический скачок (хотя, несомненно, в подборке этих исторических фактов есть и такие, что непосредственного отношения к русам не имеют, зато характеризуют развитие главного героя этой хроники — Приневья). И, конечно, это имеет отношение не только к появляющимся на арене историческим фактам, но и к легендарным, составляющим неотъемлемую часть культурного наследия всех объектов — и литературных, и территориальных.
_______________
1 Великая Швеция у Снорри — это, несомненно, Скифия.
2 «Танаквисль» — происходит, по Снорри, от имени реки Дон — Танаис.
3 Римляне во второй половине первого дохристианского века вели ряд войн за пределами империи. Луций Корнелий Сулла и Гней Помпей, скажем, сражались в Греции, Малой Азии, Армении и Закавказье с понтийцем Митридатом VI Евпатором.
4 Это — нынешний город Оденсе на датском острове Фюн.
5 Немного к западу от современной Сигтуны в Швеции.
6 Переводчик ПВЛ Дмитрий Лихачев пишет тут не «русь», а «русские». Я исправляю вольность переводчика, ибо в ПВЛ сказано предельно ясно:
«В Афетове же части седять русь...»
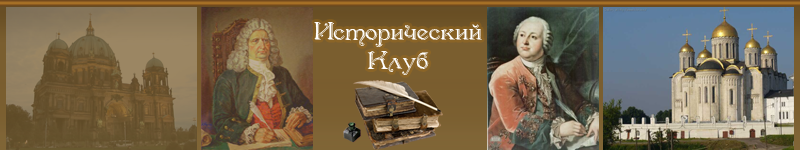
 Помощь
Помощь